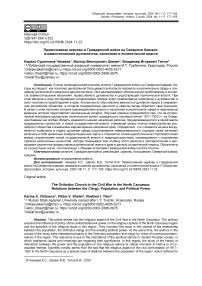Православная церковь в гражданской войне на Северном Кавказе: взаимоотношения духовенства, населения и политической власти
Автор: Чикаева К.С., Шалин В.В., Титов В.И.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена религиозному аспекту Гражданской войны на Северном Кавказе. Авторы исследуют, как политика центральной большевистской власти повлияла на религиозную сферу и специфику религиозного вопроса в данном регионе. Они рассматривают обозначенную проблематику в контексте взаимоотношений населения, православного духовенства и существующей политической власти. При этом авторов в ходе исследования интересовало прежде всего православное население и духовенство в силу численного преобладания в крае. Актуальность обусловлена важностью духовной сферы в современном российском обществе, в котором традиционные ценности и смыслы вновь обретают свое значение. В связи с этим изучение истории взаимодействия власти и населения в религиозной сфере в переломные моменты истории представляет несомненный интерес. Научная новизна определяется тем, что на историческом материале рассмотрен религиозный аспект гражданского противостояния 1917-1920 гг. на Северном Кавказе как особая область взаимоотношений населения региона, придерживающегося в своей массе традиционных ценностей, и новой государственной власти, ставившей целью полное переустройство российского общества и изменение мировоззрения населения края. Определено, что с момента начала вооруженного конфликта в стране духовная сфера существования северокавказского социума также начинает включать в себя кризисные конфронтационные черты и становится полем идеологического противостояния между сторонниками новой государственной власти и традиционалистами, стремящимися к сохранению прежних религиозных ценностей. Авторы показывают всю глубину этого раскола и противостояния и раскрывают различные формы кризиса религиозной жизни в крае в данный исторический период. Обозначены их сущностные черты, соотнесенные с общими аспектами Гражданской войны на Юге России.
Религия, гражданская война, революция, церковь, большевики, северный кавказ, епархия
Короткий адрес: https://sciup.org/149147058
IDR: 149147058 | УДК: 947.084.3:322 | DOI: 10.24158/fik.2024.11.23
Текст научной статьи Православная церковь в гражданской войне на Северном Кавказе: взаимоотношения духовенства, населения и политической власти
1,2,3Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar, Russia , ,
В ходе разнообразных исторических исследований тема взаимоотношений населения Северного Кавказа, духовенства и политической власти в регионе не получила должного комплексного освещения. Как правило, работы, касающиеся данной проблематики, рассматривали исключительно связь православного духовенства в Северо-Кавказском крае с Белым движением, естественно акцентируя внимание на поддержке церковью антибольшевистских политических структур в регионе. Однако, как представляется, взаимоотношения церкви, населения и политической власти в контексте религиозного аспекта значительно сложнее, многограннее, чем это представлено в большинстве исторических трудов. Впрочем, и проблема влияния центрального правительства и центральных структур управления православной церковью также зачастую оставалась за кадром данных работ. Лишь некоторые авторы в той или иной степени затрагивали обозначенную проблематику. Среди них А.В. Попов (2005), А.А. Кострюков (2008), А.Н. Кашеваров (1999, 2005, 2008). В этом контексте глубокое исследование провел В.Ж. Цветков (2016). Оно было посвящено правовой политической системе, формируемой в регионе как большевистской властью, так и антибольшевистскими белыми правительствами. В какой-то степени его работа перекликается с историческим исследованием Н.В. Кияшко (2019), который подробно рассмотрел состояние епархий на Юге России в период Гражданской войны, но тоже с акцентом на приверженность официального церковного духовенства белому делу. В определенной степени интересовались данной проблематикой и зарубежные исследователи, в частности С. Кенворти на страницах своей работы подчеркивал, что Русская православная церковь продолжала занимать важное место в сознании широких слоев населения России в годы Гражданской войны и оказывала заметное воздействие на их повседневную жизнь, несмотря на то что в этот период значение религиозных ценностей в обществе существенным образом снизилось (2020: 208).
Однако, несмотря на все эти исследования, в полной мере тема взаимоотношений населения Северного Кавказа, духовенства и политической власти в регионе в ее различных аспектах до настоящего момента в отечественной историографии не рассматривалась. Поэтому, исходя из целей и задач исследования, нами был задействован следующий круг источников: архивные материалы, почерпнутые из центральных и местных архивов Российской Федерации, документальные материалы, в том числе сборники опубликованных документов по избранной теме, мемуары и воспоминания очевидцев и современников описываемых событий. Также использовались труды отечественных исследователей-историков, рассмотревших различные аспекты, непосредственно относящиеся к выбранной проблематике.
Особая ситуация в религиозном вопросе в годы Гражданской войны сложилась в одном из самых специфических регионов России – на Северном Кавказе, в котором традиционные религиозные ценности у значительной части населения края сохранялись практически в неизменном виде. Изменить это положение новой власти было чрезвычайно сложно. В этот период почти полностью прервалась связь отдельных российских регионов и их местных епархий с центральным руководством Русской православной церкви. По сути, каждый регион управлялся автономно в духовном плане, независимо от центра. Соответственно, временным церковным управлением на местах передавалась вся полнота церковной власти на определенной территории. Действовать этот порядок должен был до освобождения из заключения Святейшего Патриарха и до того момента, пока центральное церковное управление вновь не обретет дееспособность и возможность руководить общероссийскими церковными делами.
После восстановления центральному церковному руководству должен будет представлен отчет обо всех действиях временных церковных властей на местах, в российской провинции1. Вследствие этого каждая епархиальная территория в провинции жила собственной жизнью. Назначенные в провинции епископы принимали решения, действуя на свой страх и риск, некото- рые из них предпочитали откладывать решение актуальных вопросов на отдаленную перспективу. Все структуры РПЦ на местах, как правило, рассматривали такое положение дел как временное и считали, что оно будет действовать до восстановления всей полноты связи с центральным церковным начальством (Кашеваров, 1999: 327).
В условиях Гражданской войны церковные структуры, существующие на местах, были вынуждены самостоятельно решать все возникающие в процессе деятельности вопросы. Считалось, что такое состояние дел продлится до того момента, пока руководство церкви в лице ее Патриарха вновь не обретет всю полноту духовной власти в России, до этого момента в епархии будет действовать временное управление приходами. При этом местные церковные власти, как правило, поддерживали антибольшевистские правительства и движения. Отмечалось это как на Юге России, так и в Сибири. Кроме того, они выражали всяческое одобрение деятельности общего руководства белыми армиями в лице Верховного правителя России адмирала А.В. Колчака. Так, например, архиепископ Омский и Павлодарский Сильвестр в проповеди от 20 ноября 1918 г в отношении правительства А.В. Колчака заявил, что власть эта «православная, твердая и единая, которая борется с теми узурпаторами, которые открыто проявили свое богоборчество»1.
На Северном Кавказе начиная с 1917 г. представители духовенства уже вполне осознавали, в каком направлении будет развиваться общественно-политическая ситуация в крае. Им было ясно видно, что дело идет к гражданскому вооруженному противостоянию. Многие священнослужители в то время прекрасно понимали, что вместо свободы и народоправства будет полная анархия, повсюду будет литься кровь и разные силы будут сражаться друг с другом в борьбе за власть в стране, будет общий криминальный хаос, повсюду будут действовать банды и происходить убийства. Они исходили из того, что ожидать хорошего в будущем не приходится2. Поэтому церковные иерархи, несмотря на очевидные симпатии к антибольшевистскому лагерю, на местах различными способами пытались предотвратить такое развитие событий, стараясь примирить враждующие между собой стороны. Но существующие здесь военно-политические силы зачастую трактовали это как противодействие их целям и устремлениям, что в особенности относилось к большевикам, которые пытались разжечь в регионе классовое противостояние. Любые попытки примирения сторон в гражданском вооруженном конфликте они расценивали именно как выступления против советской власти, ее политики и деятельности большевистской партии.
При этом многие священнослужители на местах в станицах, невзирая на риск потерять собственную жизнь и подвергнуться преследованиям со стороны новых властей, уговаривали односельчан избегать любых конфликтов с новой большевистской властью и ее сторонниками даже в том случае, если им приходилось жертвовать для этого своим имуществом и земельными наделами. Многие священники в станицах стремились прекратить нарастающую социальную рознь в станичных обществах. Они призывали не держаться за свое имущество и ту земельную собственность, которую казаки имеют, а в случае, если новая власть потребует, отдавать все это беспрекословно, поскольку альтернативой этому будет всеобщее кровопролитие3. Причем многие священнослужители за миротворческую деятельность поплатились собственной жизнью. Так, один из служителей Екатеринодарской епархии, отец Григорий, стал жертвой проводимой властями в крае антирелигиозной политики. Первоначально он был взят в заложники большевиками, а позже ими расстрелян. Естественно, никаких преступлений или проступков против новой власти он не совершал и стал очередным невинно пострадавшим от установившегося в регионе политического режима. Непосредственно перед расстрелом этот, без сомнения, мужественный человек, честно выполнявший до конца свой долг гражданина и пастыря, супруге сказал следующее: «Не печалься! Моя смерть очень хороша, ибо я погибаю невинный, и лучшей смерти мне не надо. Ты сама знаешь, что я всегда стремился пострадать за правду. Может быть, меня убьют где-нибудь за станицей, не дадут хоронить, – и за этим не плачь»4.
Эксцессы в те времена происходили повсеместно. Многие настоятели храмов на Северном Кавказе в данный период не оставили служение церкви и поплатились за это собственными жизнями. Имена большинства из них не сохранились, но некоторые были упомянуты на заседаниях Всероссийского церковного поместного собора. Так, настоятель Ставропольской епархии был застрелен большевиками во время службы в священническом одеянии, держа в руках крест.
На Соборе констатировали, что многие пастыри пали в борьбе за отстаивание православной веры, но еще очень многим придется принять страдания, а возможно, и пожертвовать жизнью за дело сохранения учения Иисуса Христа. Как отмечалось на Всероссийском поместном церковном соборе, многие служащие ВЧК и члены революционных красноармейских отрядов потеряли всякий человеческий облик и превратились в настоящих прислужников сатаны на грешной земле, они повсюду проливают кровь, сеют раздор и ненависть1.
Однако деятельность церкви продолжалась и в этих условиях. В Северо-Кавказском крае миротворческая миссия церкви поддерживалась ее епархиальным руководством и в 1917–1920 гг. вышло множество обращений к населению с призывом воздержаться от насильственных действий и не допустить кровопролития. В том числе церковное руководство обращалось с призывами и к воюющим сторонам в гражданском вооруженном конфликте. В первую очередь воззвания духовенства направлялись в адрес красноармейцев, поскольку именно на них духовные власти в крае возлагали ответственность за развернувшееся гражданское противостояние. Причем часто воззвания выходили наперекор существующим в регионе белым правительствам, которые, конечно, совершенно не стремились примириться с большевиками или найти с ними политический компромисс. Например, в обращении Церковного русского юго-восточного собора в 1919 г. заявлялось: «Красноармейцы! Южнорусский церковный Собор… обращается к вам от имени распинаемой вами Православной Церкви со словами увещания»2. Кроме того, церковное начальство в основном не препятствовало даже сдаче церковного имущества и ценностей новым большевистским властям и воздерживалось от любых форм противостояния с ними и в этом вопросе, весьма болезненном для церкви. Так, 12 апреля 1922 г. на заседании работавшей в Пятигорске и Тверском округе особой комиссии по помощи голодающим церковные иерархи, также принимавшие участие в ее деятельности, изъявили полное согласие на передачу в ее распоряжение церковных ценностей и обязались способствовать их изъятию. Об этом, в частности, заявил находящийся там же в зале заседания протоиерей В.В. Жуков3.
Вопрос об изъятии церковных ценностей в данный период стоял остро. Некоторые верующие и священнослужители выступали против этого. Но церковное начальство обычно в добровольном порядке постановляло выдать имеющиеся ценности. Особенно это относилось к передаче церковных ценностей на благотворительные нужды, например для помощи голодающим. При этом руководство церкви на местах исходило из того, что передача храмовых ценностей, используемых ранее для совершения церковных обрядов, служб и духовных ритуалов, не является каноническим нарушением и не направлена против веры. При этом чаще всего вспоминались факты, когда такие ценности передавались на нужды действующей армии. В данном случае для помощи голодающим епархиальное начальство также предлагало действовать по этой аналогии4.
Наряду с этим не стоит забывать, что значительная часть церковного руководства оказалась сторонниками белого дела и антибольшевистского движения на Юге России и неоднократно выпускала воззвание в поддержку антибольшевистских сил на Северном Кавказе, а позже поддерживала деятельность существующих там антибольшевистских правительств. Примечательно, что в ноябре 1917 г. Донской епархиальный съезд области войска Донского всецело высказался в поддержку в России легитимной республиканской власти и объявил, что полностью солидарен с донским казачеством в противостоянии с богоборцами-большевиками. Совет Донской епархии также принял резолюцию о полной поддержке власти Донского атамана и правительства Донской области. Он приветствовал заключение союза казачьих войск Юга России и горцев. Кроме того, епархиальное собрание выразило полную готовность церковных властей области поддержать меры войскового правительства, направленные на восстановление законности и порядка в крае5. Разумеется, данная политическая активность церкви не оставалась незамеченной политическими противниками – большевиками – и предоставляла им возможность огульно обвинять все православное духовенство в крае в контрреволюционной деятельности и противодействии новой власти, что, как они считали, давало право применять по отношению к ним репрессивные меры.
Согласно имеющимся данным, в период с октября 1917 г. до конца 1921 г. большевиками в нарушение всех норм действующей в России с 1918 г. новой советской конституции было расстреляно несколько тысяч служителей и монахов православной церкви. Только в 1918 г. большевиками расстреляно 3 000 служителей церкви1. С весны 1918 г. в городах и селениях северокавказских епархий проводились постоянные обыски, причем у одних и тех же лиц много раз. Завершались они, как правило, разграблением имущества, вплоть до снятия личной одежды со священнослужителей, сопровождались уничтожением церковных реликвий, книг, приходской доку-ментации2. Широко распространены были обыски лиц, связанных с религиозным культом, проводились они крайне избирательно, обычно под них попадали одни и те же лица, имущество которых разграблялось, а любые ценности изымались.
Красноармейцы сопровождали обыск уничтожением попадавшихся им церковных ценностей, а также моральными издевательствами над священнослужителями и членами их семей. Естественно, большинство такого рода мероприятий происходило без всякой санкции местных или центральных властей, было в чистом виде произволом со стороны проходящих мимо красноармейских отрядов и, естественно, не регламентировалось никакими законами и правилами. Красноармейцы врывались в дома и требовали от церковнослужителей выдачи продуктов и угощения, зачастую они приносили с собой спиртные напитки и устраивали у обыскиваемых лиц шумные застолья, нередко переходящие в оргии3.
Объяснялись эти обыски тем, что обыскиваемые якобы скрывают оружие, патроны и другое военное имущество. Зачастую в них участвовали и местные жители – сторонники новой власти. Нередко в их ходе совершались прямые убийства священнослужителей, причем часто они осуществлялись даже во время богослужения. Так, например, в станице Платнировской Кубанской области был убит местный священник. В тот момент на станицу стали наступать большевистские отряды и жители разделились на два лагеря. Это грозило привести к столкновению станичников между собой. В данной ситуации священник Волоцкой призвал односельчан к примирению и согласию и для успокоения разыгравшихся страстей стал служить церковную службу. Тогда же в станицу вошел красноармейский отряд, который получил ложные сведения о том, что священник проводит службу во имя победы белого воинства. Красноармейцы схватили священника и вытащили его на площадь. Но даже в такой трагической ситуации священник, отец Волоц-кой, продолжал призывать своих гонителей к миру и попытался заступиться за уже приговоренных к расстрелу «кадетов», в результате чего был убит разъяренными большевиками4.
Действующие на Северном Кавказе воинские части и подразделения красноармейцев, которые занимали в определенный момент ту или иную станицу, как правило, и являлись инициаторами данных расправ. Так, бойцы красноармейского отряда, вошедшие в с. Архиповское, беспощадно расправились со священником Димитрием Голубинским, а также с молодым священником Григорием Дмитревским, проживавшим в с. Соломенское. Выведенный на казнь, он просил дать ему время совершить молитву, красноармейцы вначале разрешили, но, когда священник стал молиться, начали подвергать его различным насмешкам и издевательствам, после чего отрубили ему нос и уши, а затем и голову5.
Причем нередко между отдельными станицами, поддерживавшими новую власть и не принимавшими ее, велись настоящие боевые действия, а священники становились их невинными жертвами, призывая население к миру и спокойствию. В марте 1918 г. члены Всероссийского церковного поместного собора от Ставропольской епархии приводили факты расправ над священнослужителями в губернии. Так, например, Яков Сперанский заявлял, что «в Ставропольской епархии (Ставропольской губернии и Кубанской области) имели место и досель совершаются насилия над служителями православной церкви…»6. Он также сообщал, что наблюдается трагический раскол между населением станиц Юга России и происходят жестокие бои между теми, кто в станицах поддерживает новую власть, и теми, кто против нее7.
По мере того как регион все больше попадал в орбиту действия большевистских сил, происходила ликвидация большого количества монастырей, храмов, шла реквизиция церковных объектов. К началу 1919 г. большевистские власти принялись ликвидировать различные церковные организации и учреждения. Они закрыли множество храмов и монастырей, причем действовали в этом случае чрезвычайно быстро. Поводом к закрытию чаще всего являлся дефицит помещений для гражданских учреждений и мест для размещения новых создаваемых советских учреждений. В циркулярах того времени говорилось, что ввиду недостатка объектов жилищного фонда «не следует останавливаться перед [их] очищением… от нетрудового элемента» (Шка-ровский, 1995: 86), под которым и понимались служители церкви. В этот период в крае наблюдался процесс ускоренной секуляризации, причем часто новой властью он объяснялся необходимостью защиты беднейшего населения от богатых священников и притеснений архиереев. Как отмечает Н.Ю. Беликова, «постоянное вмешательство местных властей во внутрицерковную жизнь разрушало канонические традиции, систему РПЦ» (2016: 286).
Ранее в крае существовало множество храмов, которые располагались при светских учреждениях, но уже к 1920 г. большевики решительно начали практику их закрытия и ликвидации. К 1922 г. началось повсеместное изъятие церковной утвари и религиозных ценностей, а к 1930 г. и вовсе конфисковывалось все церковное имущество. Видя такое положение дел, священники многих приходов самостоятельно отдавали красноармейцам имеющие церковные ценности и передавали вверенное им имущество. Делали они это для того, чтобы избежать насилия и репрессий со стороны местных большевистских властей. При этом в церковных кругах того времени распространилась идея о том, что не стоит противиться передаче религиозных ценностей новой власти, поскольку сам Христос когда-то отдавал все, что имеет, бедным и обездоленным, а раз власть передает изъятые ценности народу, то так тому и быть1.
Особого внимания в связи с этим заслуживает отношение населения Северо-Кавказского края к религиозной политике большевиков и религиозному вопросу в целом. В большинстве своем церковь сохраняла чрезвычайно важное значение в повседневной жизни областей края. Так, 23 марта 1918 г. газета «Власть труда» сообщала о суровом наказании станичниками односельчан за неподобающее поведении в церкви: курение, пребывание на службе в пьяном виде и т. д.2 Влияние церкви на широкие слои населения региона все еще было достаточно велико. В соответствии с этим жители региона чаще всего отрицательно относились к действиям и военных, и гражданских сторонников новой власти по осквернению храмов и религиозных святынь. Например, в июне 1918 г. ставропольские крестьяне в рассказах о повседневной жизни отмечали, что с приходом красноармейских отрядов «шла бессмысленная револьверная и ружейная пальба по иконам»3. Они неоднократно высказывали резко отрицательное отношение к такого рода поступкам. Реквизиция храмов, разграбление церковных ценностей, уничтожение икон – все это вызывало у местного населения Северного Кавказа негативную реакцию.
Появлялись даже отдельные воинские формирования, состоящие из местных жителей, целью которых были защита от поругания веры и борьба с богоборцами большевиками. Это были своего рода религиозные народные дружины, спаянные христианским единством и обладавшие высоким моральным духом. Так, в сентябре 1919 г. утверждено Положение о дружинах Святого Креста, в нем было сказано: «§ 1. Дружина Святого Креста есть воинская добровольная часть (рота, батальон), борющаяся с большевиками как с богоотступниками, за веру и Родину. § 2. Каждый вступающий в дружину Святого Креста, кроме обычной присяги, дает перед крестом и Евангелием обет верности Христу и друг другу» (Терехина, 2005: 191–192). Дружина отличалась сплоченностью и взаимной поддержкой ее членов; безусловно, это были верующие люди, которые ставили своей целью сохранение православной веры и существующей в обществе системы ценностей.
Между тем Белое движение стремилось опереться на эти религиозные чувства населения края и использовать их для достижения военно-политических целей. Оно пыталось заручиться симпатиями как Сибири, так и Юга России. Тем временем в Белом движении сменился лидер, вместо генерала А.И. Деникина руководителем Добровольческой армии стал генерал Н.П. Врангель, который при вступлении в должность выступил с призывом к борьбе «за поруганную веру и оскорбленные ее святыни. За освобождение русского народа от ига коммунистов, бродяг и каторжников, вконец разоривших Святую Русь»4. В целом, конечно, Белое движение относилось к Русской православной церкви и местному духовенству со значительно большей лояльностью, чем большевики, для которых разрушение церковной организации и насаждение идеологем марксизма и атеизма в обществе было одной из важнейших целей государственной политики. Белые стремились получить поддержку местного населения в религиозном вопросе. Они считали, что церковь вполне может быть союзником Белого движения в борьбе с большевистской властью, и намеревались использовать церковные структуры и консервативный религиозный настрой местного населения для достижения победы в Гражданской войне.
В свою очередь, церковное руководство епархиями на Северном Кавказе также в политическом смысле делало ставку на антибольшевистское движение на Юге Росси. Оно считало А.И. Деникина и других белых генералов, а также белое воинство орудием промысла божьего, ниспосланным для свержения богоборческой большевистской власти. Само объединение антибольшевистских сил позиционировалось его сторонниками как соединение всего православного народа России в борьбе с гонителями православной веры – большевиками, и религиозное церковное объединение было важным аспектом военно-политической деятельности противников советской власти. Так, П.С. Якушев, выступавший от Донского Круга казачества на объединенном заседании представителей Донского и Кубанского казачьих войск, а также горцев Кавказа по созданию антибольшевистского союза, заявлял, что «необходимо тесное единение соседей. Идея Юго-Восточного союза уже осуществляется в церковном мире»1.
Таким образом, религиозная жизнь на Северном Кавказе в годы Гражданкой войны во многом определялась теми политическими условиями, которые сложились в центре страны. В некотором смысле религиозный вопрос стал заложником политики, проводимой большевистской властью в сфере религиозной жизни. Настрой новой власти по отношению к Русской православной церкви и ее приверженцам в российском обществе был отрицательным. Большевики считали РПЦ структурой, которая тесно связана с предыдущей традиционной российской имперской государственностью, и исходили из того, что она занимает контрреволюционную позицию по отношению к их политике. Больше того, они видели РПЦ в качестве одного из главных конкурентов на общественно-политическом поприще, соперничающих за умы широких слоев населения с большевистскими идеологами и идеями марксизма.
В связи с этим их отношение к религиозному вопросу в стране, к РПЦ в частности, было негативным. Они пытались подорвать существующую церковную организацию, ослабить ее влияние на массы и добиться снижения ее авторитета в обществе. С этой целью они повсеместно насаждали принципы революционного атеизма, богоборчества, идеи революционного устройства общества, основанного на марксистском учении, считающим религию пережитком прошлого, идущим вразрез с самой сутью революционного марксистского учения. Исходя из данных политических целей и идеологических принципов, большевики и осуществляли свою политику на местах, в российской провинции, в том числе в регионе Северного Кавказа, который отличался широко распространенной религиозностью.
Военно-политические методы, используемые большевиками в центре страны, в столицах, направленные на раскол церковной организации и подрыв ее влияния на народные массы, широко реализовывались и в российской провинции, причем здесь меры, принимаемые против Русской православной церкви, отличались особой жестокостью и бескомпромиссностью. В значительной мере они оказали разрушительное воздействие на региональный социум Северного Кавказа, усилив в нем состояние раскола и нестабильности, возникшее после гражданского вооруженного конфликта, что выразилось в противостоянии различных групп жителей края между собой. В связи с этим местное население было существенным образом дезориентировано и утратило в повседневной жизни привычные традиционные основания. В особенности ярко дезориентация проявилась в духовной жизни и религиозном вопросе, это относилось как к широким народным массам, так и к региональному духовенству, которое также было застигнуто врасплох бурными политическими процессами. Следствием данных обстоятельств стали нарастание конфликтного потенциала в обществе, применение массовых репрессий по отношению к сторонникам РПЦ и ее противникам, общее состояние хаоса и нестабильности.
Важно отметить, что процессы, происходящие в сфере религиозной жизни, выступили одной из самых ярких граней вооруженного гражданского конфликта на Юге России и дополнительно усилили как его течение, так и бескомпромиссность участвующих в нем сторон, прибавив к политическим и социальным разногласиям, существующим в региональном социуме, острую конфронтацию в духовной сфере. Данное обстоятельство отражало различные аспекты мировоззренческого противостояния традиционных христианских ценностей и большевистских богоборческих идей новой государственной власти, охватившего в период Гражданской войны все пространство бывшей Российской империи.
Список литературы Православная церковь в гражданской войне на Северном Кавказе: взаимоотношения духовенства, населения и политической власти
- Беликова Н.Ю. Создание новой системы взаимоотношений государства с Русской Православной церковью после 1917 г. (на материалах Юга России) // Электронный сетевой политематический журнал «Научные труды КубГТУ». 2016. № 6. С. 282–289.
- Кашеваров А.Н. Деятельность Церковного управления на юго-востоке России в годы Гражданской войны // Граждан-ская война на Востоке России: материалы всерос. науч. конф. Пермь, 2008. С. 163–170.
- Кашеваров А.Н. Православная Российская Церковь и Cоветское государство (1917–1922). М., 2005. 440 с.
- Кашеваров А.Н. Церковь и власть. Русская православная церковь в первые годы советской власти. СПб., 1999. 328 с.
- Кенворти С.М. Патриарх Тихон и первоиерархи Православной Российской Церкви в годы Гражданской войны // Гражданская война в России: жизнь в эпоху социальных экспериментов и военных испытаний, 1917–1922: материалы междунар. кол-локвиума / отв. ред. Н.В. Михайлов, М. Стейнберг. СПб., 2020. С. 208–222. https://doi.org/10.51255/978-5-4469-1699-3_2020_208.
- Кияшко Н.В. Церковь в системе формирования институтов власти Добровольческого движения на Юге России: особенности создания Черноморской епархии в 1918–1919 гг. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. 2: История. История Русской православной церкви. 2019. № 91. С. 92–104. https://doi.org/10.15382/sturII201988.92-104.
- Кострюков А.А. Ставропольский cобор 1919 г. и начало независимой церковной структуры на Юге России // Уральский исторический вестник. 2008. № 4 (21). С. 71–75.
- Попов А.В. Временные высшие церковные управления на территориях, контролируемых белогвардейскими правительствами // История белой Сибири: материалы VI Междунар. науч. конф. / отв. ред. С.П. Звянин. Кемерово, 2005. С. 180–188.
- Терехина Т.А. Духовная связь Белой армии и церкви в годы Гражданской войны // История белой Сибири: матери-алы VI Междунар. науч. конф. / отв. ред. С.П. Звянин. Кемерово, 2005. С. 191–195.
- Цветков В.Ж. Белое дело в России. 1919–1922: формирование и эволюция политических структур Белого движения в России: в 2 ч. Ч. 1. М., 2016. 640 с.
- Шкаровский М.В. Петербургская епархия в годы гонений и утрат. СПб., 1995. 208 с.