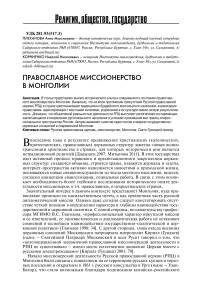Православное миссионерство в Монголии
Автор: Плеханова Анна Максимовна, Корниенко Николай Николаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Религия, общество, государство
Статья в выпуске: 8, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ исторического опыта и современного состояния православного миссионерства в Монголии. Выявлено, что на всем протяжении присутствия Русской православной церкви (РПЦ) в стране христианизация традиционно буддийского монгольского населения, коренизация православия, идентификация с местными жителями, укоренение в их культуре имели низкую результативность. Доказано, что объективной реальностью деятельности РПЦ выступает религиозная составляющая, заключающаяся в окормлении русскоязычного населения в условиях проживания вне границ конфессионального пространства России. Авторы выявляют наличие недостатков в модели государственно-церковных отношений в современной Монголии.
Русская православная церковь, миссионерство, монголия, свято-троицкий приход
Короткий адрес: https://sciup.org/170168496
IDR: 170168496 | УДК: 281.93(517.3)
Текст научной статьи Православное миссионерство в Монголии
В последние годы в результате продвижения христианских (католических, протестантских, православных) церковных структур заметна «новая волна» трансляции христианства в странах, для которых исторически оно является нетрадиционной религией [Дацышен 2007; Митыпова 2011]. В этих государствах идет активный процесс правового и организационного закрепления церковных структур: создаются общины, строятся храмы, издаются журналы и газеты, интернет-пространство активно наполняется новостями о приходской жизни, посвящаются новые священнослужители из числа местного населения, ведется, согласно концепции евангелизации, социальная работа. В связи с этим возникает необходимость более глубокого исследования исторического опыта деятельности миссионеров, в т.ч. православных, в нехристианских странах.
Значительный интерес в данном контексте представляет Монголия, куда православие проникло не насильственным путем, а как органичная часть русской дипломатической миссии. Однако даже сегодня следует констатировать отсутствие четкой позиции в определении характера и глубины взаимодействия государственной и церковной политики. С одной стороны, по свидетельству профессора МГИМО В.С. Глаголева, «профессиональный характер иркутской миссии и ее ответвлений, ее лингвистическая и дипломатическая работа не оставляют сомнений в теснейшем взаимодействии государственно-политической и церковной политики» [Глаголев 1998: 34]. С другой стороны, глава отдела внешних церковных сношений Московского патриархата митрополит Кирилл (Гундяев) (ныне – Святейший Патриарх Московский и всея Руси) говорил о том, что «целенаправленной заграничной православной миссионерской деятельности в РПЦ не существовало – имело место естественное движение Церкви вместе с русскими землепроходцами» [Кирилл (Гундяев) 2001: 70].
Начало миссионерской деятельности Русской православной церкви (РПЦ) в Монголии было связано с появлением на ее территории русских купцов и торговых поселений и открытием в 1861 г. русского консульства в Урге (ныне – Улан-Батор), что стало возможным благодаря подписанию китайско-российского
Пекинского договора (1860 г.) и Правил сухопутной торговли (1862 г.). С открытием консульства началось строительство консульского поселка, в котором постоянно проживали от 40 до 100 русских, а также бурят – выходцев из Забайкалья и Иркутска. Уже в 1863 г. генеральный консул Российской империи в Урге Я.П. Шишмарев поставил вопрос перед иркутским архиереем о необходимости постоянного присутствия в Урге священника для духовного окормле-ния православных и строительства храма [Шастин 1895: 325]. В Монголию был послан верхнеудинский священник Иоанн Никольский, которому было дано особое поручение: «собрать нужные сведения о возможности учреждения православной миссии в Монголии» [Никольский 1883: 160]. Вскоре при консульстве был построен небольшой православный храм в честь Святой Троицы с целью окормления членов российского консульства, сопровождающих их казаков, русских купцов и всех других православных граждан, проживающих в Монголии. Уже 22 марта 1864 г. была отслужена первая Божественная литургия. Однако в течение почти 30 лет при церкви не было постоянного священника. Лишь 4 сентября 1893 г. решением Священного синода настоятелем консульского храма Живоначальной Троицы был назначен священник Николай Шастин, после чего там стали проводиться постоянные богослужения.
Российское влияние в регионе усилилось после обретения в 1911 г. Внешней Монголией автономии, заметно оживилась и деятельность РПЦ. По мнению современных исследователей, именно благодаря значительной помощи со стороны России Монголия сумела добиться широкой внутренней автономии в составе Китая и оградить собственную территорию от прямой китайской колонизации [Современные … 2013: 48].
В это время приток русских в страну богдо-гэгэна увеличился с 1,5 тыс. до 5 тыс., причем на Ургу приходилось 3 тыс. чел. Появились часовни в г. Маймачене (Алтан-Булаке) и Улясутае. Встал вопрос и о строительстве часовни или молельного дома в другой русской колонии – в г. Кобдо. В районе оз. Хубсугул был открыт миссионерский стан, имевший постоянные связи с Ниловой пустынью – миссионерским монастырем Иркутской епархии [Поздняев 1998: 282]. «Ургинские консулы хорошо понимали деловые и бытовые нужды духовенства и стремились содействовать созданию духовного комфорта для священнослужителей, хотя решение этих вопросов было сложным в бюрократическом отношении» [Андреев 2003: 118].
Вторым настоятелем Ургинского Свято-Троицкого прихода стал назначенный летом 1914 г. иркутский священник Феодор Парняков. Сохранился его рапорт иркутскому епископу сразу же по его прибытии в Ургу, где он, в частности, пишет: «Худшая часть [русского] населения, находясь в близком соприкосновении с приезжими, шатка в нравственном отношении. ‹...› В Урге нет общественной библиотеки, читальни, чтений, собраний, которые бы объединяли русское население на почве религиозно-нравственной и культурной. …Вообще русская колония в Урге есть случайное собрание разного рода люда, преимущественно коммерческого, проникнутого эгоистическими стремлениями к обогащению за счет доверчивых монголов… Общим вопросом, объединяющим до некоторой степени прихожан Ургинской церкви, является вопрос о постройке нового храма. В последнее время этот вопрос был предметом усиленных суждений и разговоров. Сделана закладка храма с водружением креста. Собирались кой-какия средства. На этом дело постройки храма и остановилось»1.
По инициативе Ф. Парнякова с целью организации приходской жизни в
Монголии было создано Ургинское приходское попечительство. Деятельность отца Феодора не ограничивалась пределами Урги, он часто совершал поездки в самые отдаленные районы Монголии. Однако монгольское население не спешило принимать православие. Вот как это объяснял настоятель: «Вследствие слепой преданности своему духовенству и бдительного надзора со стороны последнего, а также особенного уклада общественной и частной жизни монголы не проявляют склонности принимать христианскую веру» [Парняков 1915: 54].
Революция 1917 г. способствовала росту нестабильности в жизни русской колонии в Монголии. В период нахождения в Монголии барона Р.Ф. фон Унгерн-Штернберга проблема институционального становления РПЦ и взаимодействия с властными органами привела к изменению параметров светско-религиозного взаимодействия. Причем духовенство в лице священника Феодора Парнякова распространяло «модернистские» на тот момент взгляды в религиозной среде. Так, например, священнослужитель совершал богослужение не в храме, а в здании местного училища, украшенного красными флагами и большевистскими лозунгами. Русские жители, которые проживали в Урге, обвиняли священнослужителя в связях с китайцами и в том, что он отказывался помогать арестованным русским офицерам. В феврале 1921 г. по приказу барона Унгерна Ф. Парняков был расстрелян.
В 1924 г., после смерти монгольского политического и религиозного лидера богдо-хана (Богдо-гэгэна VIII) Монгольская Народная Республика превратилась в светское государство. Православные верующие до мая 1923 г. совершали богослужения в консульском храме. В конце мая 1923 г. Ургинская церковь и принадлежащие ей дома были закрыты. Иконы, книги, престол, жертвенник и другие богослужебные предметы были перевезены в частный дом, который арендовала православная община. Изменение режима и формы власти, как и статуса государства, трансформация морально-ценностных ориентиров заставили представителей РПЦ думать не только о существовании в новых условиях, но о выживании, даже ценой компромисса.
Последние сведения о храме в столице Монголии относятся к 1927 г. В фонде редких документов Национального музея Республики Бурятия хранится указ преосвященного Евсевия (Рождественского), епископа Забайкальского и Нерчинского и телеграмма патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) о завершении деятельности живоцерковников.
Последующие социалистические преобразования в Монголии положили конец любым попыткам распространения православия в стране. Особая форма секулярных процессов и искусственная эмансипация социального бытия от влияния религии, присущие авторитарной системе, сложившейся в СССР, определяли аналогичную церковно-религиозную ситуацию в Монголии в 1920-х – начале 1980-х гг. Насаждение воинствующего атеизма в стране, где все население позиционировало себя как верующих, смотрелось весьма странно [Лиштованный 1998: 3]. Поэтому очевидно, что устранение государственного принуждения во второй половине 1980-х гг. вызвало активизацию церковного фактора в общественном сознании, распространение религиозных ценностей и представлений, значительный подъем общественного авторитета религии в начале 1990-х гг.
Религиозное возрождение и церковный ренессанс в условиях современного Монгольского государства привели к изменению социального статуса церкви. Согласно принятой 13 января 1992 г. Конституции, в Монголии была провозглашена свобода вероисповедания. В 1995 г. группа пожилых граждан Улан-Батора из местной русской общины обратилась через Общество российских граждан к официальным лицам российского МИДа с просьбой оказать содей- ствие в деле восстановления православного прихода в Монголии. 27 ноября 1996 г. в Министерстве юстиции была зарегистрирована православная община, а 16 марта 1997 г. в столице Монголии после 70-летнего перерыва была отслужена Божественная литургия. 19 января 1998 г. в Улан-Батор прибыл новоназначен-ный настоятель Свято-Троицкого прихода протоирей Анатолий Фесечко, который возглавлял приход до июня 2005 г. Накануне его приезда 29 декабря 1997 г. российская компания ОАО «Внешинторг» передала здание на территории торгпредства в пользование Русской православной церкви. Так Троицкий приход в Урге обрел второе рождение.
Летом 2001 г. Свято-Троицкий приход посетил председатель отдела внешних церковных сношений Московского патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев), который совершил закладку первого камня в основание будущего Свято-Троицкого храма. Завершилось строительство церкви в 2009 г. Великое освящение совершил преосвященный Марк (Головко), епископ Егорьевский, глава секретариата Московской патриархии по зарубежным учреждениям. В богослужении участвовали многочисленные верующие различных национальностей: русские, украинцы, белорусы, сербы, болгары, греки, буряты, монголы. Богослужение совершалось на церковнославянском и монгольском языках. Пел хор Свято-Троицкого храма г. Улан-Батора, состоящий в основном из монгольских певчих.
В настоящее время на территории Монголии по-прежнему не существует иных приходов православных церквей, кроме Троицкого прихода Русской православной церкви в Улан-Баторе. От лица Троицкого прихода действует православная община в г. Эрдэнэте (15–20 чел.). В общей численности населения Монголии (3 млн чел.) – это 0,01%1.
Ввидунемногочисленностиприхода,непостоянностиегосостава,атакженевоз-можности его самофинансирования структура прихода носит характер миссионерского центра. Во главе прихода находится Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Управление приходом осуществляется Управлением по зарубежным учреждениям Русской православной церкви во главе архиепископом Марком Егорьевским. Настоятель (с июня 2005 г. по настоящее время – протоирей Алексей Трубач) в соответствии с благословлением священноначалия осуществляет богослужебную, миссионерскую и социальную деятельность прихода в Улан-Баторе.
Взаимоотношения прихода с представителями монгольских властей в основном строятся через посольство России. В 2010 г., после прихода к власти Демократической партии во главе с Ц. Элбэгдоржем эти отношения несколько ухудшились, но с середины 2014 г. наблюдается положительная динамика их развития. Так, на праздновании 75-летия победы на Халхин-Голе в сентябре 2014 г. настоятель прихода А. Трубач был награжден памятной медалью Министерства обороны Монголии. В мэрии был положительно решен вопрос о продлении аренды земли под русское кладбище в Улан-Баторе, осуществляются постоянные встречи с представителями власти на приемах в посольстве России.
Православная церковь в Монголии является одним из активных субъектов общественной жизни. В то же время даже сегодня следует констатировать наличие некоторых сложностей в модели государственно-церковных отношений в современной Монголии. Так, например, положение православной общины в Монголии мало чем отличается от положения христианских сект. Согласно действующему законодательству Монголии о религиозных организациях, офици- ально признанным в стране буддистским, шаманским и исламским организациям не требуется ежегодное продление регистрации в мэрии г. Улан-Батора. А получение такого разрешения православным приходом является обязательным и занимает почти полгода.
В течение года при Троицком приходе духовно окормляются около 200–300 чел. Богослужение по воскресным дням посещают от 40 до 70 чел. Состав прихожан – русские, украинцы, белорусы, сербы, грузины, монголы. Это либо постоянные жители Монголии, либо приезжие специалисты, дипломаты, бизнесмены, служащие.
Значительную роль в укреплении взаимоотношений прихода Свято-Троицкого храма с монгольским обществом играют детско-юношеская художественная школа «Анима», а также спортивные секции в спортзале прихода. В целом эта отчасти коммерческая деятельность прихода формирует положительный социальный фон.
Помимо удовлетворения духовных нужд русского населения Монголии, Свято-Троицкий приход ставит и сугубо миссионерскую задачу – пропаганду вероучения в среде монгольского населения. Однако достигнутые успехи совершенно незначительны. Это связано с тем, что, во-первых, православная община обладает гораздо меньшими возможностями, в т.ч. и финансовыми; во-вторых, РПЦ категорически не приемлет методы, активно используемые другими христианскими организациями для обращения монголов в свою веру; в-третьих, задача обращения всего монгольского населения в православие не ставилась изначально. Серьезным препятствием является незнание монгольского языка, в то время как большинство католических и протестантских священников свободно владеют им.
Масштабы православной миссии несопоставимы с католической и протестантской. Так, в современной Монголии насчитывается более 100 протестантских церквей, объединенных в «Союз евангелистов», численностью около 35 тыс. чел. [Ванчикова, Цэдэндамба 2014: 71]. Успехи католиков и протестантов в виде десятков тысяч обращенных связаны с их социальной активностью, подпитываемой значительными финансовыми вливаниями со стороны Папского престола и протестантских обществ. Помощь бездомным, малоимущим, больным, заключенным, содействие монгольской молодежи в изучении английского языка, в получении образования в западных университетах и т.д. положительно воспринимаются частью монгольского населения. Использование нужд и потребностей местного населения для привлечения новых последователей продиктовано, во-первых, стремлением западных держав создать некую промежуточную прослойку из местного населения, которая, «усвоив ценности европейской культуры, должна стать их опорой», и, во-вторых, с желанием «Ватикана упрочить свои позиции с помощью создания местных церквей» как составных частей Римско-католической церкви1.
В целом же Монгольское государство достаточно веротерпимо. С 2007 г. все религиозные организации были освобождены от налога на прибыль.
Таким образом, миссионерская деятельность Российской православной церкви в Монголии как в имперский период, так и в настоящее время не преследует внешнеполитические цели в качестве приоритетных: в условиях проживания в Монголии – вне границ конфессионального пространства России – преимущественно окормляются россияне, оказавшиеся за ее пределами [Арзуманов 2008: 489]. И в этом заключается одно из главных отличий видения предназначения церкви в странах Азиатско-Тихоокеанского региона католическими и проте- стантскими миссионерами, с одной стороны, и православными – с другой. У первых религиозные институты стремятся выступать средством «консолидации нации» [Sarlagtay 2004: 326], для вторых объективной реальностью деятельности миссионеров выступает религиозная составляющая.
В современных условиях не наблюдается рост численности православного населения в Монголии. При этом православная церковь для большинства граждан остается обладателем традиционной русской духовной культуры, норм и правил поведения, а священнослужители – носителями и ретрансляторами идей общественно-политической жизни. При этом важно учитывать факт консервативности монгольского сообщества, где верующие буддисты и священнослужители выступают носителями определенных норм и правил поведения и взаимодействия с властными структурами.
Список литературы Православное миссионерство в Монголии
- Арзуманов И.А. 2008. Улан-Баторская община местнорусских в историко-религиоведческом контексте (XX-XXI вв.). -Проблемы отечественной истории: источники, историография, исследования: сборник научных статей. СПб: Нестор-История. С. 488-498
- Андреев А.И. 2003. Я.П. Шишмарев -дипломат, путешественник, исследователь Монголии. -Mongolica. Вып. VI. С. 118-121
- Ванчикова Ц.П., Цэдэндамба С. 2014. Религиозная ситуация в Монголии: 1990-2009 гг. -Гуманитарный вектор. № 3(39). С. 67-72
- Глаголев В.С. 1998. Характер и подвиг Святителя. -Иннокентьевские чтения. Чита
- Дацышен В.Г. 2007. Христианство в Китае: история и современность. М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям. 240 с
- Кирилл (Гундяев), митрополит. 2001. Религия и дипломатия. Взаимодействие Отдела внешних церковных связей Московского патриархата с Министерством иностранных дел России. -Церковь и время. № 3(16). C. 70-85
- Лиштованный Е.И. 1998. Россия и Монголия в XX веке: региональный опыт взаимоотношений (на материалах Восточной Сибири): автореф. дис. … д.и.н. Иркутск. 39 с
- Митыпова Г.С. 2011. Православие в Юго-Восточной Азии. -Вестник Бурятского государственного университета. № 7. С. 166-171
- Никольский И. 1883. Записки о поездке русского священника в Монголию в 1864 г. -Труды православных миссий Восточной Сибири. Иркутск. Т. 1. С. 159-172
- Парняков Ф. 1915. Поездка священника по Монголии (из рапорта епископу). -Забайкальские епархиальные ведомости. № 2. 15 янв. С. 51-59
- Поздняев Дионисий (свящ.). 1998. История православной общины во Внешней Монголии. -Материалы ежегодной богословской конференции православного Свято-Тихоновского института. М.: ПСТБИ. С. 282-284
- Современные российско-монгольские отношения: модели и сценарии (отв. ред. В.А. Родионов). 2013. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та. 248 с
- Шастин Н. 1895. Возникновение и устроение православного храма при Русском Императорском Консульстве в Урге и торжество его освящения. -Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. Иркутск. № 13. 1 июля. С. 325-333
- Sarlagtay O.M. 2004. Mongolia: Managing Transition from Nomadic to Settled Culture. -The Asia-Pacific: A Region in Transition. Honolulu: Asia-Pacific Center for Security Studies. P. 323-334