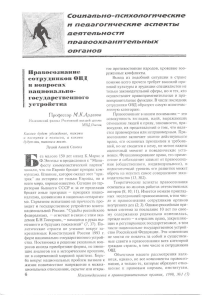Правосознание сотрудников ОВД в вопросах национально-государственного устройства
Автор: М.К. Ардавов
Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd
Рубрика: Социально-психологические и педагогические аспекты деятельности правоохранительных органов
Статья в выпуске: 1 (7), 1998 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/149126491
IDR: 149126491
Текст статьи Правосознание сотрудников ОВД в вопросах национально-государственного устройства
Луций Линей Сенека
Без малого 150 лет назад К.Маркс и Ф.Энгельс в предисловии к “Манифесту коммунистической партии" писали, что по Европе бродит призрак коммунизма. Влияние, которое оказал этот “призрак на историю не только Европы, но и всего мира, хорошо известно. Сегодня по территории бывшего СССР и за ее пределами бродят иные призраки — призраки национализма, шовинизма и национал-сспаратиз-ма. Серьезное испытание на прочность проходит и государственное устройство многонациональной России. “Судьбы российского федерализма, - отмечает в связи с этим академик Б.Н.Топорнин, — находятся в руках нынешнего и будущих поколений" (7, 37). Политические страсти не утихают вокруг закрепленных Конституцией России 1993 г. форм национально-государственного устройства. Постановка и решение указанных вопросов иногда приобретают формы, не имеющие аналогов ни в историческом прошлом, ни в современной мировой практике. Борьба вокруг национальных проблем вызвала к жизни повсеместное напряжение в межнациональных отношениях, скрытое или откры тое противостояние народов, кровавые вооруженные конфликты.
Выход из подобной ситуации в стране помимо всего прочего требует высокой правовой культуры и эрудиции специалистов не только •законодательной сферы. но и тех. кто осуществляет правоприменительные и правоохранительные функции. В числе последних сотрудники ОВД образуют самую многочисленную категорию.
Правосознание в нашем понимании — это совокупность взглядов, идей, выражающих отношение людей к праву, законности, правосудию. их представлений о том. что является правомерным или неправомерным. Правосознание включает знание действующего права, его основных принципов и требований. но не сводится к нему, не менее важны оценочный момент и поведенческие установки. (Функционирование нрава, его применение и соблюдение зависят от правосознания (общественного, индивидуального), и недостаточный уровень его развития может обречь на неуспех самое совершенное законодательство (13. 502).
Теоретические аспекты правосознания освещены во многих работах отечественных авторов (8; 10; 11). Имеется немало прикладных исследований правосознания, в том числе и правосознания сотрудников органов внутренних дел (2; 3). Однако российская пра-новая система за последние 10 лет по своему содержанию радикально изменилась, прежде всего — в отраслях права, закрепляющих и регулирующих государственное, в том числе национально-государственное устройство Российской Федерации. Эти изменения не могли нс повлечь за собой и существенные сдвиги в правосознании всех категорий граждан страны, в том числе и сотрудников ОВД.
Объектами нашего рассмотрения являются, однако, нс все компоненты правосознания, а только те, которые образую! отношение к правовым нормам, институтам.
регулирующим националыю-государствен-ное устройство. Отсюда преимущественный интерес к таким принципам и институтам государственного права, как правовой статус национальных (этнических) общностей, их представительство в выборных органах власти. территориальная правосубъектность, государственная суверенность, правовые пределы самоопределения и т.п., которые были или остаются предметами дискуссий, противоречий или открытого противостояния этнических общностей в Северо-Кавказском регионе. При этом мы исходим из тою, что национальный состав сотрудников ОВД региона идентичен национальному составу населения в целом.
Целевых исследований интересующих нас компонентов правосознания сотрудников ОВД в прошлом не предпринималось, и возможности сравнительного изучения происшедших здесь сдвигов отсутствуют. Речь может идти о поисковом исследовании с целью зафиксировать сегодняшнее состояние правосознания и попытаться оценить его в контексте существующих правовых реалий Поэтому в ходе исследования проверялись следующие основные предположения (гипотезы):
-
I. Отношение сотрудников ОВД региона к действующим в области национально-государственного усгройства институтам, принципам и нормам, будет различным в зависимости от численности и реального правового статуса национальных общностей, к которым они (сотрудники) принадлежат.
-
2. При прочих равных условиях сотрудники русской национальности больше привержены правовым нормам, принципам и институтам. которые свойственны унитарному государству, а сотрудники иных национальностей — к нормам и принципам, свойственным конфедерации.
-
3. Обучение сотрудника в юридическом вузе в силу ознакомления его с историей и современной мировой практикой по вопросам национально-государственного строительства способствует формированию положительного отношения к существующему в настоящее время в России варианту решения лих вопросов.
При выборе методических подходов к исследованию учитывалось то обстоятельство, что в силу специфики темы и профессиональных особенностей испытуемых* при- менение прямых способов получения информации может привести к тому, что в ней будет высокая доля артефактов. Эти соображения обусловили выбор анонимного псевдо-экспертного опроса в качестве основного методического приема.
Изучение правосознания неизбежно связано с получением информации (в той или иной форме) от субъекта-носителя этого сознания. В нашем случае это предполагало адекватное понимание экспериментатором и испытуемым правовых терминов, категорий и др. Если учесть, что в правовой пауке эту проблему приходится решать специально (отсюда необходимость различных форм толкования понятий, норм, терминов, категорий), го актуальность ее применительно к нашему исследованию становится очевидной. Сказанное означает, в частности, что интересующую нас информацию можно было получить не от любых сотрудников. а только от тех. кто так или иначе изучил основы государственного нрава и овладел понятийным (терминологическим, категорнаяьным) аппаратом этой отрасли науки. Этому требованию, по нашим представлениям, соответствуют сотрудники, обучающиеся в юридических образовательных учреждениях и уже изучившие соответствующий цикл государствен неправовых дисциплин, или окончившие подобные заведения.
В ходе исследования, в роли псевдоэкспертов опрашивались 100 сотрудников ОВД Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабарлино-Балкарии, Краснодарского и Ставропольского краев, которые были отобраны методом случайной выборки. В числе испытуемых были 50 человек русской национальности, столько же испытуемых абазинской, адыгейской, балкарской, дагестанских, ингушской, кабардинской, осетинской, черкесской национальностей. 40 человек испытуемых имели образование в объеме двух курсов юридического вуза, 40 человек — высшее юридическое.
Для экспертной (псевдоэкспертной) оценки испытуемым предлагался набор из 26 суждений, в которых излагались различные принципы (варианты) решения вопросов национально-государственного устройства. Испытуемые должны были сделать следующие оценки: “Этосправедливо и практически осуществимо"; “Это практически осуществимо. но несправедливо": “Это справедливо. но практически неосуществимо”; “Это несправедливо и практически неосуществимо”; “Непонято, о чем идет речь". Испытуемым. чья оценка не совпадала ни с одним из приведенных вариантов, предлагалось изложить се в произвольной форме.
Если отвлечься от случаев порабощения одних народов другими силой оружия, идея равенства народов независимо от их численности (языка, религии, прошлой истории и г.д.) была и остается краеугольным камнем, на котором создавались или рушились многонациональные государства (4). Открытое отрицание этой идеи нс позволило бы ни объединить, ни удержать в рамках одного государства даже два народа. С другой стороны, нигде в мире нс было и нет и двух народов, абсолютно одинаковых по численности, экономическому, культурному потенциалу и иным параметрам. Это обстоятельство должно неи збежно порождать столь же существенные различия в их сознании, в том числе правосознании. Тем нс менее, и в историческом прошлом, и в современном мире можно найти сколько угодно примеров, когда разные народы сосуществуют в рамках единой государственности. Во всех случаях, когда подобное сосуществование обеспечивается нс с помощью насилия, оно может покоиться только на одном основании на соответствии такой формы сосуществования интересам народов - экономическим, социальным, культурным, оборонным и т. д. Что касается России, то процесс образования государственности щесь “... шел разными путями, охватывая добровольные союзы и спасительные присоединения, но не исключая и завоевательные походы" (7, 27).
Существовало мнение, что Россия могла быть только единым государством, она никогда не образовывала и не образует ни федерации. ни унии. Но еще 25 января 1918 г. 111 Всероссийский съезд Советов в Декларации прав грудящегося и эксплуатируемого народа заявил, что Советская Россия учреждается как федерация советских национальных республик. Был взят курс па то, что субъектами федерации могут быть только национал ьн ыс государстве н н ые обра зова н ия. Остальные регионы изначально даже формально рассматривались как компоненты унитарного государства (7. 29). Объяснил, эти явления можно по-разному. Наша точка зрения на причины этих явлений заключается в следующем.
Учреждение федерации, как и любое другое объединение в единое государство разных субъектов, обладающих суверенностью той или иной степени (унии, союзы, конфедерации) предполагает помимо создания федеральных ( союзных, конфедеративных) 8
органов и институтов государственной власти дифференцированное (поименное) обозначение входящих в ее состав национально-государственных образований, территорий их юрисдикции. Подобную “демаркацию" территории невозможно было провести применительно ко многим из проживающих в России национальных общностей, в том числе и русским. Последние, по-видимому. не осознавали и не могли осознавать себя как рядоположенная национальная общность. Примечательны в этом отношении слова бывшего Гимна СССР, в котором было сказано: “Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь'*. Но как может 150-миллионная национальная общность ощущать или осознавать себя равной другим общностям, среди которых многие исчисляются только тысячами индивидов?
Основы заложенного в Конституции 1993 г. государственного устройства России в известном смысле представляют собой попытку совместить национальный и гражданский подходы. Однако закрепленные в главе 2 Конституции принципы, в частности, равенство граждан перед законом и судом независимо от пола, расы, национальности, языка, должностного положения и т. д. (ст. 19 Кон-ституции), единое гражданство в Российской Федерации, верховенство положений Конституции и других -законов Федерации над положениями конституций и законов субъектов Федерации, прямое действие норм Конституции - все это свидетельствует о том, что государство устанавливает и закрепляет правоотношения со своими гражданами, а нс с национальными общностями.
Если к этому добавить, что к числу субъектов Федерации, наряду с националы но-государственными образованиями (рес-публиками, национальными областями, национальными округами) с одинаковым государственно-правовым статусом, отнесены и административно-территориальные единицы (края, области, города федерального подчинения), становится очевидным, что юсудар-ство не рассматривает национальные общности в качестве субъектов государственно-правовых отношений и гаковых с ними не устанавливает.
В то же время в практике государственного строительства последних лет возникли прецеденты установления федеральными органами власти особых государствен но-правовых отношений с некоторыми национально- государстве иными обра зова н и я м и. Та к и е отношения установлены, в частности, с Та-
1998. №1 (7)
тарстаном по договору от 15 февраля 1994 г, Башкортостаном но договору от 3 август 1994 г. В 1997 году подписан особый договор с Чеченской Республикой. Хотя и здесь субъектами договорных правоотношений выступают многонациональные народы указанных республик (а не только титульные нации), в общественном сознании эти договоры могут расцениваться как договоры с татарами, башкирами, чеченцами как национальными общностями. Указанные реалии, по нашему мнению, так или иначе размывают в правосознании российских граждан идею федерализма и равноправия наций в рамках Российской Федерации.
В нашем исследовании в порядке изучения данного вопроса испытуемым для псев-доэкспертной оценки предлагались три тезиса:
-
• “Национальные общности должны быть равны в правах независимо от численности”;
-
• “Правовой статус национально-государственных образований — субъектов Федерации не должен зависеть от численности населения этих национально-государственных образований”;
-
• “У всех национально-государственных образований — субъектов Федерации должен быть абсолютно одинаковый правовой статус (правовое положение)” (рис.1).



Рис. 1а, б, в. Оценка критериев справедливости и практической реализуемости (осуществимо сти), %. Здесь и далее:
- юристы;
| 1 - русские.
^jg - нс юристы;
Принцип одинакового правового статуса национальных общностей и национально-государственных образований по критерию справедливости, как правило, не встречает оппозиционных взглядов. Однако доля испытуемых, считающих этот принцип нереализуемым применительно к национальным общностям, вдвое больше, чем доля поддерживающих такую точку зрения применительно к национально-государственным образованиям. И в том и в другом случае носителями негативных взглядов являются в основном лица русской национальности. Среди испытуемых с юридическим образованием больше скептиков (22%) по поводу возможности равноправия национальных общностей, а по поводу равноправия национальногосударственных образований таковых практически нет (0.2%).
Итак, принцип равноправия как национальных общностей, так и национально-государственных образований признается справедливым и практически реализуемым подавляющим большинством испытуемых, и такой взгляд сколько-нибудь выраженно нс зависит от их национальной принадлежности, наличия-отсутствия юридического образования
Однако приведенные данные не содержат ответа на вопрос о том, в каких именно правах должны быть равны национальные общности или национально-государственные образования. А национальные общности и национально-государственные образования, как известно, могут быть как одинаково полноправными, так и одинаково бесправными.
В предисловии к комментированному изданию Конституции Российской (Редера-ции 1993 г. академик Б. Н.Топорник по этому вопросу пишет: “Федеративное устройство России строится на принципе равноправия и самоопределения народов в Федерации (ч.З ст.5). Этот принцип охватывает все народы, проживающие на российской территории, независимо от их численности, уровня экономики и культуры и - что также существенно — пройденного ими исторического пути. В России нети нс может быть иерархии народов, их деления на более или менее важные. Всем народам таран тировано право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития (выделено нами. — М.ЛУ Отмечены в Конституции лишь права коренных малочисленных народов, которые особо охраняются не только в рамках государства, по и в международном сообществе*' (6, 36).
В Конституции России 1993 г. действительно указано на одинаковое право народов на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития (ч.З ст.68). Однако норм, декларирующих равенство народов в каких-либо иных правах. Конституция не содержит. Что касается особой охраны прав коренных малочисленных народов, этот вопрос в самой Конституции отнесен и к ведению Российской Федерации (и.“в" ст.71), и к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Федерации ( п.“б” ст.72), с той только разницей, что Российская Федерация осуществляет “регулирование (выделено нами. — М.АЛ и защиту прав национальных меньшинств" (один из редких случаев отнесения одного и того же вопроса одновременно к исключительному ведению Федерации и совместному ведению Федерации и субъектов Федерации). К сказанному следует добавить, что в ст. 69 Конституции говорится о том. что “Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов (выделе- 10
но нами. - M.Л.^ в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международною права и международными договорами Российской Федерации. Основным международным документом, предусматривающим указанные права, является, как известно, Конвенция МОТ 1989 г. Согласно ст.1 Конвенции к коренным народам относятся “народы в независимых странах, которые являются потомками тех, кто населял страну или географическую область, частью которой является данная страна, в период се завоевания или колонизации либо в период установления существующих государственных границ, и которые независимо от их правового положения сохраняют некоторые или все свои социальные, экономические, культурные и политические институты" (6. 382). Подобное толкование понятия “коренные народы" позволило бы отнести к ним все без исключения народы Российской Федерации, однако Конвенция Россией не ратифицирована, ст.69 Конституции России говорит о коренных малочисленных народах. Как понимать “малочисленный”, ведь практически каждый из 120 с лишним народов России, за исключением русского, может быть определен как “малочисленный” по сравнению с другими народами. Означает ли это, что Конституция предполагает особые права всех народов России, за исключением русского?
Наконец, в ст. ст. 71 и 72 Конституции, в которых определяются предметы ведения Российской Федерации и предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, речь уже идет не о “коренных" народах и не о “коренных малочисленных” пародах, а о “национальных меньшинствах”. Все это позволяет констатировать, что вопрос о государственно-правовом статусе народов России как в принципиальном, так и в содержательном плане остается открытым.
Понятия “нация", “национальная общность”, “этнос", “этническая общность" в научном и практическом обиходе чаще всего употребляются как рядоположенные. Понятие же “народ" употребляется в двух основных значениях. В одних случаях оно обозначает население страны, территории (народ России, россияне, сибиряки), в других является синонимом “этноса”, “этнической фуп-пы", “национальности” (русские, украинцы, татары, чукчи и т.п.) (9. 4).
Государственный статус национальных общностей и их представительство в выборных органах власти.
Неразрывная взаимосвязь правового ста -туса национальных общностей и принципов их представительства в выборных органах государственной власти вполне очевидна.
В порядке изучения правосознания испытуемых поданному вопросу им для псев-доэкспсрт ной опенки предлагались следующие суждения:
-
• “Выборные органы власти всех уровней должны формироваться по принципу равного (паритетного) представительства национальностей, населяющих государство (Федерацию)’*;
-
• “Выборные органы власти всех уровней должны формироваться по принципу квотного (пропорционально численности) представительства всех национальностей, населяющих государство (Федерацию)”;
-
• “Выборные органы власти всех уровней должны формироваться по территориальному принципу, независимо от национального состава населения".
В послереволюционные годы местные Советы и съезды различных уровней фор-мировались, как правило, по принципу равного (паритетного) представительства национальностей. Так. ЦИК Кабардино-Балкарской автономной области в 20-е голы состоял из одинакового количества депутатов кабардинской. балкарской и русский национальностей при несопоставимо разной пропорции лих национальностей среди населения. Однако с образованием СССР в рамках Российской Федерации возобладали идеи перерастания “федерации национальностей” в “федерацию Советов” (5, 18), и принцип паритетного представительства национальностей в выборных органах власти в жизнь не проводился.
По Конституции СССР 1924 г. одна из палат ЦИК СССР носила название “Совет национальностей". Одноименное название носила вплоть до распада Союза и одна из палат Верховного Совета СССР.
Однако нормы представительства в них национальностей, закрепленные в самой Конституции, не были не только равными, но и квотными. Они зависели от государственного статуса, которого удостоена та или иная национальная общность. При установлении же государственного статуса народов они были разделены по признаку народа, давшего название, на четыре категории союзным и автономным республикам, его автономным областям и округам (5, 6). Причем и гакос категорирование далеко не всегда учитывало численность народов. Между тем было вполне очевидно, что возможности экономического. политического и культурного развития народов в рамках разных по статусу национально-государственных образований далеко не одинаковы, а возможности реализации (отстаивания) национальными общностями своих интересов через выборные органы власти, в которых решение принимается голосованием, справедливо связывались с характером представительства в этих органах. Обращает на себя внимание тот факт, что при всей противоречивости правовой базы вопросы представительства национальностей в выборных органах власти всех уровней в бывшем СССР решались таким образом, что не вызывали открытых споров или противостояний. Впрочем, объяснить это можно тем, что партийные органы, которые формировали и утверждали списки кандидатов в депутаты всех уровней, неизменно учитывали их национальный состав.
В Конституции Российской Федерации (в отличие от конституций бывшего СССР) вопросы представительства национальностей в выборных федеральных органах власти нс рассматриваются. Не рассматриваются они и в Законе Российской Федерации “О выборах депутатов Государственной Лумы Федерального Собрания Российской Федерации", подписанном П резиле hi ом России 21 июня 1995 г. Законодательство субъектов Федерации по выборам представительных органов масти, как и (федеральное, построено по территориальному принципу. Из сказанного следует, что ни федеральное законодатель ство. ни законодательство субъектов Федерации не содержат правовых оснований для постановки и решения вопросов о представительстве в выборных органах по национальному принципу.
Однако отсутствие реальной теоретической и правовой базы под идеей равного представительства национальностей в выборных органах власти сегодня не означает отсутствия самой идеи в правосознании граждан и соответствующих практических притязаний Радикальная постановка этого вопроса в Северо-Кавказском регионе заключается в требованиях абсолютного паритета не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов Федерации. И если этот вопрос не так актуален в субъектах Федерации с мононациональным составом коренного населения (имея в виду титульные нации), то в национал ьно-государстве иных образован иях (две и более коренные национальности) он представляет предмет острых политических дискуссий и противостояния, является реальным компонентом национальной государственно-правово!! идеологии. Мы полагали, что сотрудники органов внутренних дел, будучи представителями конкретных национальных общностей, не могут быть индифферентными к указанной идее (рис.2).



Рис. 2а, б, в.
Идеи равного (паритетного) и квотного (пропорционально численности) представительства национальностей в выборных органах власти всех уровней имеют больше приверженцев, чем действующий ныне принцип их формирования по территориальному признаку. При этом принцип паритета по критерию справедливости соответствует взглядам практически всего состава испытуемых-не юристов, а по критерию осуществимости встречает минимальное число оппозиционных взглядов. Отличия взглядов испытуемых-юристов состоят в том, что большая их доля находит его практически нереализуемым, аналогичные показатели и во взглядах юристов па территориальный принцип выборов. Однако среди них доля лиц, считающих этот принцип неосуществимым, возрастает в основном за счет тех, кто находит его несправедливым.
Наконец, среди лиц с юридическим образованием заметно больше сторонников квотного принципа представительства, прежде всего — по критерию справедливости.
Среди испытуемых русской национальности доля лиц, проявляющих негативное отношение к принципу паритетного представительства, составляет 20% (для сравнения: среди испытуемых-не юристов — 0,2%, юристов - 15% ); к принципу квотного представительства - 30% (против 30% - по не юристам и 25% — по юристам).
В отношении к ныне действующему территориальному принципу испытуемые русской национальности занимают лояльную позицию чаще, чем испытуемые другой национальности, среди них 16% носителей оппозиционных взглядов против 30% у не юристов и 40% — юристов.
Как видим, принципам паритетного и квотного представительства отдают предпочтение большая доля испытуемых, чем ныне действующему территориальному принципу. Наличие юридического образования способствует более критичной оценке рассматриваемых принципов по критерию практической реализуемости, в результате доля противников паритета возрастает, а доля противников квотного принципа, наоборот, несколько сокращается.
Юридическое образование уравнивает взгляды на территориальный принцип со взглядами на паритетный и квотный принципы. Среди испытуемых русской национальности доля противников паритетного и квотного принципов (сторонников территориального принципа) заметно больше, чем среди испытуемых коренных национальностей.
Вопросы о наименовании национально-государственных образований, в которых проживают национальные общности, являются предметами внимания, споров, ведут к столкновению амбиций.
С нашей точки зрения, юридического значения этот вопрос не имеет в том смысле, что нет взаимосвязи между правовым статусом национальной общности и найм снова кием государственного образования, в котором она проживает. Тем нс менее почти всеобщее желание народов сделать собственное самоназвание наименованием государственного образования или компонентом этого наименования - очевидный факт, с которым невозможно не считаться.
В нашем исследовании в порядке изучения умонастроений испытуемых но вопросу о наименованиях национально-государственных образований для псевдоэкспертной оценки были предложены суждения:
-
• “Наименования национально-государственных образований - субъектов Федерации должны состоять из названий (самоназваний) национальностей, проживающих в этих национально-государственных образованиях";
-
• Наименования национально-государственных образований — субъектов Федерации не должны содержать наименований (самоназваний) национальностей, населяющих эти государственные образования".
Мы отдаем себе отчет в том, испытуемые в оценке предложенных им правовых принципов и норм далеко не всегда руководствовались знаниями о фактическом положении дел с реализацией этих принципов и норм в России или мировой практике государственного строительства. В оценках в разном соотношении неизбежно присутствовали как рациональный (рассудочный), так и эмоциональный компоненты. Наиболее очевидно это проявлялось в отдельных ответах типа: “Никакого равенства!"; “Никаких суверенитетов!" и т.п. Однако результаты изучения позволяют констатировать, что лиц, индифферентных (безразличных) к вопросу о наименованиях национально-государственных образований или не понимающих постановку вопроса, среди испытуемых незначительная доля (всего 8%). Мнение о том. что эти наименования должны состоять из эндоэт-ионимов (самоназваний) народов; что такой порядок справедлив и практически реализуем. является преобладающим. Наблюдаемые здесь различия в связи с национальной принадлежностью испытуемых, наличием отсутствием у них юридического образования сводятся к тому, что среди испытуемых-юристов больше лиц, которые подходят к этому вопросу рационально (в противоположность эмоциональному подходу). Испытуемые русской национальности занимают в этом вопросе некоторую нейтральную (“буерную") позицию (рис.З).


Рис. За, 6.
Самоопределение национальных общностей по Конституции СССР союзных республик происходило на основе принципа социалистического федерализма, в результате (выделено нами. - М. А.) свободного и добровольного объединения равноправных республик.
Право и пределы самоопределения союзных республик закреплялись нет. 72 Конституции СССР, которая гласила: “За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР"
Но в Основном законе не содержалось норм, устанавливающих право нации, понимаемой как этническая общность, на самоопределение. Зафиксированное в ст. 72 Конституции СССР и в ст. 69 Конституций Союзных Республик право свободного выхода из СССР означало право республик (государств), а не национальных общностей. Закрепленное в такой форме право на самоопределение могло означать фактически право на самоопределение конкретной национальной общности только в случае мононациональности населения республик. Что касается самой России советского периода, провозглашенное в ее Конституции право свободного выхода из СССР не распространялось на автономные республики, тем более национальные области и округа, находившиеся в ее составе.
В сегодняшней России очевидному стремлению народов к государственному самоопределению сугубо ио этническому принципу объективно противостоит прежде всего то обстоятельство, что в национальной структуре населения почти всех национально-государственных образований граждане русской национальности по численности занимают значительные позиции. Среди населения республик Северо-Кавказского региона, например, русские составляют: в Адыгее — 68.096; Кабардино-Балкарии — 31,9; Калмыкии - 37,7; Карачаево-Черкессии - 42,4; Осетии — 29,9; Чечне и Ингушетии - 23,1 %”.
Понятие “самоопределение наций” в действующей Конституции Российской Федерации нс упоминается, “самоопределение" в Конституции употребляется дважды -в преамбуле и ст. 5. Это понятие применяется для обозначения одного из принципов, на которых основано федеративное устройство России, материальной же нормы, устанавливающей право народов на самоопределение, не имеется.
Выше мы говорили, что понятие “народ” в научном и практическом обиходе употребляется в двух смыслах. Вопрос о том, в каком из этих значений фигурирует понятие “народы” в ст. 5 Конституции России, остается открытым. Под “народами” здесь можно понимать и население субъектов Федерации, независимо от его национального (этнического) состава, и отдельные этносы, такие, как адыгейцы, ингуши, осетины, чукчи и т. п. Именно последние рассматриваются в ка честве народов России в энциклопедическом издании института этнологии и антропологии Российской Академии наук. Ничего нового не привнесло в государственноправовой статус национальных (этнических) общностей и провозглашение национально-государственных образований, в которых они проживают, в качестве субъектов Федерации. Между тем этнические общности как в прошлом, так и на современном этапе решали и пытаются решать вопросы государственного самоопределения именно как этнические общности. Формы, которые используются для этой цели, различны. Отсутствие у этнических общностей официально признаваемой государственной правосубъектности часто ведет к созданию ими сформированных по сугубо национальному признаку негосударственных политических структур: “Конгресс кабардинского народа”, “Национальный совет балкарского народа", различные объединения казачества и т. п., которые функционируют параллельно государственным структурам власти и нередко пытаются решать политические вопросы, в том числе в области государственного строительства, “явочным порядком”. В бывших прибалтийских республиках для вытеснения граждан некоренных национальностей используются институты гражданства, государственного (официального) языка, социального обеспечения и т. д. В условиях России на примере Чеченской Республики очевидна попытка решить этот вопрос силой оружия. По нашим представлениям, происходит все это, помимо прочих причин, еще и потому, что правосознание по вопросам государственного строительства приобрело выраженный национальный, этнический характер. В исследовании испытуемым предлагалось оценить следующие суждения:
-
• “Национальные общности должны быть субъектами государственно-правовых отношений всегда, независимо от численности этих общностей”;
-
• “Национальные общности должны быть субъектами государственно-правовых отношений только по отдельным вопросам в зависимости от численности этих общностей”;
-
• “Национальные общности вообще не должны быть субъектами государственно-11равовых отношен и й ”.
Полученные результаты выглядят следующим образом (см. рис.4).





в

Рис. 4 а, б, в.
Идея о том, что национальные общности должны быть субъектами государственно-правовых отношений, разделяется абсолютным большинством испытуемых. и такая точка зрения не зависит от их национальной принадлежности и характера образования.
По вопросу о том, что государственная правосубъектность национальных общностей должна зависеть от их численности, существует широкий разброс (дисперсия) мнений. Почти каждый второй испытуемый-юрист находит этот принцип хотя и практически реализуемым, но несправедливым. Больше всего оппозиционных взглядов вызывает тезис о том. что национальные общности не должны быть субъектами государственно-правовых отношений (рис.4).
Принцип, связывающий государственную правосубъектность национальных общностей с их численностью, встречают противоречивые взгляды, но отношение к нему подавляющего большинства испытуемых негативное; 60% испытуемых русской национальности находит этот принцип несправедливым и неосуществимым. Мы склонны интерпретировать это явление как артефакт, вызванный гем, что испытуемые русской национальности в данном случае оценивали очевидно “выгодный"' для них вариант решения вопроса. Это явление выглядит несколько парадоксальным, и объяснить его можно только путем дополнительных исследований.
Суверенитет национально-государственных образований. Понятие “суверенитет** пришло из французского языка и означает верховную власть государства, независимость государства во внешних и верховенство во внутренних делах. Уважение суверенитета является основным принципом современного международного права и международных отношений. Он закреплен в Уставе ООН. других международных актах. Таким образом, понятие “суверенитет", если строго придерживаться его смысла, приложимо только к независимому государству, субъекту международно-правовых отношений. Это означает также, что суверенитет не может быть дозированным, а государство или иное государственное образование — частично суверенным. Поэтому и для правовой науки, и для практики государственного строитель-стык по нашему мнению, было бы желательно называть вещи своими именами и там. где государственное образование не обладает подлинным суверенитетом, речь вести о его правосубъектности, которая, в отличие от суверенитета, может быть различной как по объему, гак и но содержанию.
Еще Луций Сенека говорил, что “равенство прав нс в том, что все ими воспользуются. а в том, что они всем предоставлены** (12, 324). Что касается сегодняшних российских реалий в области государственного пра- ва, то термин “суверенитет" применяется с весьма размытым содержанием и фактически означает то же, что и “государственная правосубъектность". Отсюда иронии по поводу “парада суверенитетов", заявления типа: “Пусть каждый берет столько суверенитета, сколько способен проглотить". Отсюда и декларируемая всеми национально-государственными образованиями суверенность. По нашим представлениям, реальным суверенитетом в условиях сегодняшней России обладает только сама Россия - государство, являющееся членом международного сообщества, имеющее государственную территорию, границу и все другие атрибуты государственности. Примечательно, что Конституция Российской Федерации 1993 г., называя поименно все субъекты Федерации, ничего по поводу их суверенности на говорит. Само слово “суверенитет" в Конституции употреблено лишь один раз (ст.4) применительно ко всей Федерации.
Академик Б.Н.Топорнин по этому поводу пишет, что “в России ... сложилась ситуация, характерная сочетаниям двух суверенитетов в рамках одного государства. Это сочетание проявляется в том. что суверенитет федеративного государства охватывает, покрывает собой суверенитег входящих в него республик, тоже объявивших о своем суверенитете. Иной раз такой подход напоминает известную русскую матрешку, внутри которой помещается еще несколько матрешек меньшего размера. Сам по себе такой подход вполне приемлем при условии, что им не нарушаются исторически сложившееся государственное единство народов Российской Федерации, целостность ее территории" (6, 35). Нам же при всем уважении к академику “такой подход" представляется абсурдным. Наше мнение здесь состоит в том. что политическая элита национальных республик, объявивших себя суверенными, может быть, на каком-то этане не будет проводить этот принцип в жизнь, возможно, будет проводить непоследовательно или не до конца. Однако как компонент правосознания граждан соответствующих национальных общностей, проживающих в республиках, идея суверенности будет “работать”, прокладывать себе дорогу в жизнь, как и любые другие идеи, образующие активные компоненты национального правосознания.
В порядке изучения умонастроений сотрудников ОВД поданной тематике испытуемым предлагалось оценить следующие тезисы:
-
• “Суверенитет национально-государственного образования — субъекта Федера- 1 6
ции должен зависеть от численности населения этого национально-государственного образования";
-
• “Суверенитет национально-государственного образования должен зависеть от вклада этого национально-государственного образования в экономику Российской Федерации";
-
• “Суверенитет национально-государственных образований — субъектов Федерации осуществляется реально”;
-
• “Суверенитет национально-государственных образований — субъектов Федерации не может быть осуществлен реально".
Первые два тезиса оценивались в системе критериев “справедливо - несправедливо"; “осуществимо - практически неосуществимо", а по двум последним испытуемые должны были указать, совпадают суждения с их мнением или нет. Оба варианта предусматривали возможность произвольного изложения особых мнений.
Полученные данные говорят о том. что варианты, связывающие суверенитет национально-государственных образований с численностью их населения или вкладом в экономику Российской Федерации, отвергается подавляющим большинством испытуемых как несправедливый и практически нереализуемый. Среди испытуемых-юристов в два раза больше лиц, которые находят справедливым и реализуемым принцип зависимости суверен игета национально-государственного образования от численности его населения, что. но-видимому, можно объяснить тем, что они лучше осведомлены о существующем в России и реально “работающем" варианте раз-[раничения субъектов Федерации на республики. области, округа с разным государственно-правовым статусом, в основе которого лежит именно численность населения, хотя ссылок на эго ни в Конституции, ни в каком-либо ином официальном документе нс имеется. Полученную картину оценки рассматриваемого варианта испытуемыми русской национальности, по нашему мнению, можно объяснить той же причиной, на которую мы указывали выше, тем более что понятие “суверенитет" в его нынешнем употреблении звучит синонимом понятия “правовой статус" (рис.5).
Что касается принципа зависимости суверенитета национально-государственных образований от их вклада в экономику Российской Федерации, то он имеет больше


Рис 5 а, 6
приверженцев (около 25%), чем принцип зависимости от численности населения, но половина из них считает этот принцип хотя и справедливым, но практически нереализуемым.
Полученные данные позволяют заключить, что среди испытуемых преобладает доля лиц, считающих, что суверенитет национально-государственных образований — субъектов Федерации не осуществляется. Но среди испытуемых-юристов, больше носителей противоположного мнения. Считаем, что юридическое образование способствует лояльным взглядам на существующие в России реалии. Особый интерес, с нашей точки зрения, представляют случаи, когда испытуемые полагают, что суверенитет может осуществляться, но не осуществляется. Таковых оказалось среди испытуемых-юристов 0,8%, среди испытуемых русской национальности — 15. среди испытуемых-нс юристов — 20%.
Итак, международно-правовой термин “суверенитет” в научном и практическом обиходе, в том числе в правотворчестве, употребляется с “размытым" содержанием, что способствует внедрению в правосознание неадекватных, иллюзорных взглядов, может вызвать соответственно маргинальное умонастроение и поведение граждан. В связи с этим существует целесообразность глубокой научной разработки этого принципа международного права применительно к современным российским реалиям. Эго гем более актуально, что в настоящее время в республиках -субъектах Федерации разрабатываются проекты новых конституций. Неадекватное содержание в понятие “суверенитет” вкладывают и сотрудники органов внутренних дел. Понимание неприменимости этого международно-правового принципа во внутригосударственном строительстве проявили только 3% испытуемых. Все это свидетельствует о необходимости более глубокого изучения вопросов, связанных с суверенитетом, в системе профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел.
Что касается приведенных результатов исследования поданной теме. их. по нашему мнению, следует рассматривать скорее как данные, характеризующие правосознание испытуемых по вопросу о правовом статусе, государственной правосубъектности национально-государственных образований -субъектов Федерации, а не об их суверенности.
Право национальной общности на территорию. Историческим судьбам народов Северного Кавказа, влиянию на эти судьбы царской. а затем и послереволюционной России посвящены сотни томов научных исследований и публикаций (5). Не вдаваясь в подробный их анализ, отметим, что. независимо от политических интересов царской России на Северном Кавказе, понимать и квалифицировать проводившуюся ею в этом регионе политику как полигику колонизации значило бы оставлять без внимания как методы ведения войны, так и ее фактические последствия (по мнению некоторых историков, она продолжалась 100 лет).
То обстоятельство, что Кавказская война на всем ее протяжении велась путем физического истребления народов (а не только их вооруженной части) либо их вытеснения из исконных территорий, говорит о том, что царская Россия вела ее не для “умиротворения" народов, не для их покорения или порабощения. Царской России нужны были земли региона, территория. Что касается народов, населявших эту территорию, они цар-ской России не нужны были ни в каком качестве. Об этом говорят многочисленные и единогласные доклады царских генералов и наместников ио поводу то одного, то другого из этих народов, что “народ сей подлежит нс умиротворению, а токмо уничтожению”. В качестве альтернативы геноциду признавалось только переселение пародов в заведомо непригодные для обитания места (для черкесов, например, — приазовские болота) или на чужбину. В послереволюционный период земельный, территориальный вопрос десятилетиями не сходил с повестки дня, оставался по существу доминирующим фактором, определявшим модальности межнациональных отношений в регионе. Здесь расхожими были и остаются понятия “кабардинские земли", "осетинские земли", “карачаевские земли" и т.п., а умонастроения представителей коренных народов, в том числе сотрудников ОВД. отличаются не только этноцентризмом. но и этнотопоцентризмом (I.16-23). В рамках нашего исследования особенности правосознания испытуемых поданной тематике изучались путем пссадоэкспсртной оценки ими тезисов:
-
• “Право собственности национальной общности на территорию, на которой она проживает, должно зависеть от того, завоевана эта территория предками этой общности или занята ненасильственным путем";
-
• “Право собственности национальной общности на территорию, на которой опа проживает, не должно зависеть от того, -завоевана эта территория предками этой общности или занята ненасильственным путем";
-
• “Национальная общность должна обладать правом собственности на территорию, на которой она проживает, в зависимости от продолжительности проживания на этой территории";
-
• “Национальная общность ни в какой форме не должна обладать правом собственности на территорию, на которой опа проживает".
Первые два тезиса оценивались в понятиях: “Это справедливо и практически осуществимо"; “Это практически осуществимо, но несправедливо”; “Это несправедливо и практически неосуществимо": “Непонятно, о чем идет речь”. По остальным тезисам испытуемые указывали, совпадают они с их мнением или нет, либо произвольно излагали свое особое мнение (рис.6).


Рис.6 а. б.
Полученные данные говорят о том, что 40% всех испытуемых, в том числе 65% русских, считают несправедливым и практически невозможным ставить право собственности национальной общности на территорию, на которой она проживает, в зависимость от обстоятельств заселения этой территории. Различия в умонастроениях, обусловленные национальной принадлежностью испытуемых, наличием-отсутствием у них юридического образования, состоят в том. что доля лиц. отвергающих постановку рассматриваемого нрава в зависимость от обстоятельств заселения территорий, среди испытуемых русской национальности заметно больше (80%). чем среди представителей иных национальностей. Наличие (или отсутствие) юридического образования само по себе, по-видимому, не влияет на отношение испытуемых к рассматриваемому вопросу. Увеличение среди юристов противников постановки территориальной правосубъектности национальных общностей в зависимость от обстоятельств засе- ления ими территории происходит в основном за счет лиц русской национальности. С тезисом о том. что национальные общности ни в какой форме нс должны обладать правом собственности на территорию, на которой они проживают. согласились лишь 21 % испытуемых-не юристов. 31% испытуемых-юристов и 12% испытуемых русской национальности. Остальная часть (соответственно 70%. 65%. 80%) испытуемых с такой постановкой вопроса не согласилась. Что касается постановки рассматриваемого права в зависимость от продолжительности (давности) проживания национальной общности на данной территории, разных (противоположных) точек зрения по этому вопросу придерживается практически одинаковое число испытуемых. С таким тезисом согласились 47% испытусмых-не юристов. 42% испытуемых-юристов и 40% испытуемых русской национальности. Однако и здесь доля испытуемых русской национальности, отвергающих постановку вопроса, заметно преобладает (55% против 45% по всей выборке и 35% по испытуемым-юристам).
В целом данные, полученные по вопросу о территориальной правосубъектности национальных общностей, можно резюмировать таким образом, что подавляющая часть испытуемых всей выборки отвергает идею о том. что такого права быть нс должно или оно должно зависеть от каких-то обстоятельств. Доля противников отрицания рассматриваемого права за национальными общностями среди лиц русской национальности заметно выше (80%), чем среди лиц иных национальностей. Болес половины испытуемых русской национальности не согласились с постановкой этого права в зависимость от давности проживания национальной общности на данной территории.
Право национальной общности на образование независимого государства. В условиях сегодняшней России острота рассматриваемого вопроса вряд ли нуждается в доказательствах. В нашем исследовании в порядке изучения умонастроений сотрудников ОВД вокруг тематики о государственном единстве России, праве выхода из нес национальных общностей с образованием независимых государств испытуемым предлагалось высказать свое отношение к суждениям о том. что такое право должно (не должно) зависеть от численности национальной общности. масштабов территории се проживания, расположения этой территории по отношению к государственной границе России. Выяснялось отношение испытуемых к вопросу реализации рассматриваемого “права” насильственным. военным путем (рис.7).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что непонимание постановки вопроса о подобном “праве” национальной общности проявили лишь единицы (всего 4 случая), хоз я юридически оформленного права народов на образование независимых государств российское законодательство нс содержит. Постановку такого “права” национальных общностей в зависимость от их численности как несправедливую и практически неосуществимую отвергает 42% ислыту-смых-нс юристов, 50% испытуемых-юристов и 58% испытуемых русской национальности. С противоположным тезисом согласились лишь 46% испытусмых-не юристов, 62% испытуемыхюристов и 58% испытуемых русской национальности. Обращает на себя внимание сравнительно высокая доля испытуемых, которые находят “право” национальной общности на образовании самостоятельного государств;! практически нереализуемым (26%, 15% и 22% соответственно).
58% испытусмых-не юристов, 67% испытуемых-юристов и 66% испытуемых русской национальности склонно признавать рассматриваемое право за национальными общностями независимо от масштабов населяемых ими территории.
62% испытусмых-не юристов, такая же доля испытуемых-юристов и 68% испытуемых русской национальности - против постановки рассматриваемого “права" в зависимость or расположения населяемых национальными общностями территорий по отношению к государственной границе России. Что касается возможности реализации рассматриваемого “права” насильственным, военным путем, се отвергают 78% испытуемых-нс юристов. Склонность признать такое “право” за национальными общностями проявили всего 5 испытуемых (один балкарец, двое кабардинцев и двое русских).
Таким образом, идея о “праве" национальных общностей на образование независимых государств является компонентом правосознания подавляющей час ти испытуемых. Большинство из них нс склонно связывать это “право” нис численностью национальной общности, ни с масштабами населяемой ею территории, ни с расположением этой территории по отношению к государственной границы России. Однако испытуемые за единичными исключениями отвергают идею о возможности реализации рассматриваемого права насильственным, военным путем.
"Право национальной общности на образование независимого государства должно зависеть от ее численности.и
“Право национальной общности на образование независимого государства нс должно зависеть от се численности."


“Право национальной общности на образование независимого государств;! должно зависеть от масштабов занимаемой сю территории."
"Право национальной общности на образование независимого государства нс должно зависеть от масштабов занимаемой ею территории."


“Право национальной общности на образование независимого государства должно зависеть от расположения занимаемой ею территории по отношению к государственной границе Российской Федерации."
"Право национальной общности на образование независимого государства нс должно зависеть от расположения занимаемой ею территории по отношению к государственной границе Российской Федерации."

Рис. 7а, б, в, г. д, е.

Приведем результаты исследований в краткой форме.
-
I. Предполагавшаяся зависимость отношения сотрудников органов внутренних дел к действующим в области национально-государственного устройства России нормам, принципам и институтам от численности и государственного статуса национальных общностей, к которым эти сотрудники принадлежат, фактически имеет место. Такие различия существуют, по крайней мере, между позициями испытуемых русской национальности и позициями испытуемых других национальностей.
-
2. В пользу справедливости второго из проверявшихся в исследовании предположений говорят такие выводы:
-
а) среди испытуемых, отвергающих принципы абсолютно одинакового правового статуса как национальных общностей, так и национал ьно- государствен н ых образова п и й. заметно преобладают лица русской национальности;
-
б) в отношении к ныне действующему в России территориальному принципу формирования выборных органов масти (принцип унитарного государства) испытуемые русской национальности проявляют более лояльное отношение. Носителей оппозиционных взглядов но этому вопросу среди них 16% против 30% по юристам и 40$% по не юристам:
-
в) в вопросе о наименованиях национально-государственных образований испытуемые русской национальности занимают нейтральную позицию. Но это объясняется, по нашему мнению, не безразличием к вопросу, а тем, что для них он не актуален - их эндоэтноним является официальным нанме-н о ва н и е м федс ра ц и и;
-
г) наибольшая доля испытуемых русской национальности отвергает постановку нрава собственности национальной общности на территорию в зависимость от обстоятельств ее заселения (65%) или давности проживания (55%);
-
д) наконец, упомянутые выше ответы типа: “Никакого равенства!’’; “Никаких суверенитетов!”, хотя и немногочисленны, но поступили от испытуемых русской национальности.
-
2. Баранов П.П. Правосознание и правовое воспитание // Обитая теория права. - II Новгород, 1993.
-
3. Баранов II.II. Системная природа правосознания личного состава органов внутренних дел// Северный Кавказ Борьба с преступностью - Ростов н/Д . 1997.
-
4. Гумилев Л Л. Этногенез и биосфера Земли. М.. 1994.
-
5. Дзидзоев В.Д. Национальные отношения на Кавказе. Владикавказ, 1995.
-
6 Конституция Российской Федерации Комментарий. - М . 1994.
-
7. Конституция Российской Федерации: Комментарий. М . 1996
-
8. Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и законность. - М., 1973.
-
9. Народы России Энциклопедия. - М. Большая Российская энциклопедия, 1994
-
10. Организация и э<|>фектнвность правового сознания. — М., I9K3.
-
II. Остроумов Г. С. Правовое сознание действительности. ~ М . 1969.
-
I2. Сенека Л.А. Нравственные письма Луци-лию. - Кемерово, I9X6
-
I3. Философский энциклопедический словарь. — М, 1989.
Что касается влияния юридического об разования на позиции сотрудников ОВД но вопросам национально-государственного устройства, то оно оказалось неоднозначным и нс всегда соответствует выдвинутым предположениям.
Так, среди испытуемых-юристов больше скептиков по поводу возможност и равноправия национальных общностей, тогда как по вопросу равноправия национально-государственных образований таковых практически нет (всего 0.2%). К вопросу о наименованиях государственных образований юристы подходят более рационально. Они же боль ше склонны ставить государственный статус национальных общностей в зависимость от их числен пости. Среди испыт>'емых-юристов значительная доля лиц, считающих, что суверенитет национально-государственных образований осуществляется реально. Все это можно интерпретировать как форму выраженной солидарности йенытуемых-юристов с существующим или декларируемым положением вещей в России. Наряду с этим, среди испытуемых-юристов больше носителей оппозиционных взглядов на действующий в России территориальный принцип (формирования выборных органов власти, больше приверженцев “права” национальных общностей на образование независимых госу-дарсгв.