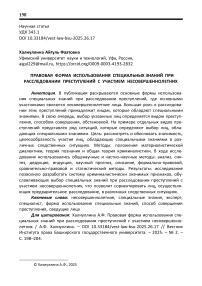Правовая форма использования специальных знаний при расследовании преступлений с участием несовершеннолетних
Автор: Халиуллина А.Ф.
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-разыскная деятельность
Статья в выпуске: 2 (26), 2025 года.
Бесплатный доступ
В публикации раскрываются основные формы использования специальных знаний при расследовании преступлений, где основными участниками являются несовершеннолетние лица. Большая роль в расследовании этих преступлений принадлежит лицам, которые обладают специальными знаниями. В свою очередь, выбор указанных лиц определяется видом преступления, способом совершения, обстановкой. На примере отдельных видов преступлений представлен ряд ситуаций, которые определяют выбор лиц, обладающих специальными знаниями. Цель: рассмотреть и обосновать значимость, целесообразность участия лиц, обладающих специальными знаниями в различных следственных ситуациях. Методы: положения материалистической диалектики, теория познания и общая теория криминалистики. В ходе исследования использовались общенаучные и частнонаучные методы: анализ, синтез, дедукция, индукция, научный прогноз, описание, формальноправовой, сравнительноправовой и статистический методы. Результаты: исследование позволило разработать систему криминалистически значимых признаков, обуславливающих выбор специальных знаний при расследовании преступлений с участием несовершеннолетних, что позволит сориентировать лиц, осуществляющих предварительное расследование, в различных следственных ситуациях.
Несовершеннолетние, специальные знания, эксперт, специалист, форма использования специальных знаний, способ совершения преступления, сведущие лица
Короткий адрес: https://sciup.org/142244942
IDR: 142244942 | УДК: 343.1 | DOI: 10.33184/vest-law-bsu-2025.26.17
Текст научной статьи Правовая форма использования специальных знаний при расследовании преступлений с участием несовершеннолетних
Уфимский университет науки и технологий, Уфа, Россия, ,
Ufa University of Science and Technology, Ufa, Russia, ,
Введение. Значимую роль в расследовании преступлений, совершаемых с участием несовершеннолетних, занимает установление обстоятельств подлежащих доказыванию, при этом дополнительные гарантии, которыми наделил законодатель несовершеннолетних, существенно расширили круг таких обстоятельств. Но стоит учитывать тот факт, что часть этих обстоятельств правоприменитель способен установить только благодаря привлечению сведущих лиц к проведению следственных действий. Многие исследователи, обращаясь к теме применения специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве, отмечают давнюю историю обращения к знаниям специалистов в различных отраслях науки и знаний в уголовном и гражданском процессе [1, с. 71]. Этот порядок закреплен в УПК РФ, но при этом важно учитывать ряд криминалистически значимых признаков (обстоятельств), от которых зависит выбор оптимальной правовой формы использования специальных знаний в делах, где участниками процесса выступают несовершеннолетние лица. Однако не только практика использования специальных знаний порождает новые проблемы. Некоторые из них зачастую возникают по вине самого законодателя, допускавшего небрежность и в формулировках соответствующих правовых норм и в используемой им терминологии. Так, к примеру, отсутствие законодательной регламентации процесса вовлечения и участия специалиста в следственных действиях на стадии возбуждения уголовного дела влечет ряд вопросов практического применения положений статьи 144 УПК РФ [2, c. 263].
Система криминалистически значимых признаков, обуславливающих выбор специальных знаний. Правовая форма использования специальных знаний обусловлена следующими обстоятельствами:
-
а) вид преступления, совершённого несовершеннолетним, согласно его криминалистической классификации;
-
б) характер и сущность подлежащих выяснению вопросов, требующих привлечения специальных знаний или навыков;
-
в) связь возникающих специальных вопросов с предметом доказывания по делам данной категории;
-
г) статус участников процесса, наделенных правом обращаться к сведущим лицам, и пределы их полномочий по делам о преступлениях несовершеннолетних;
-
д) особенности личности несовершеннолетних участников и многие другие факторы.
Эти обстоятельства и являются основой или критериями систематизации правовых форм использования специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Осведомленность следователя (суда) в разнообразии этих правовых форм, приведённых в систему, поможет им выбрать оптимальный вариант.
Говоря о видах преступлений, определяющих разнообразие и являющихся основаниями систематизации правовых форм использования специальных знаний по делам несовершеннолетних, прежде всего, имеются в виду те, которые, будучи основаны на их уголовно-правовой характеристике, различаются криминалистическими признаками [3, c. 673]. В частности, спецификой обстановки, места и способа совершения преступлений, объектом преступного посягательства, особенностями личности несовершеннолетнего преступника и другими криминалистически значимыми элементами преступления, составляющими его криминалистическую характеристику. Именно они в известной степени определяют потребность в применении специальных знаний, необходимых для установления важных обстоятельств преступлений, совершаемых несовершеннолетними или при их участии. Наиболее информативна в этом отношении группа преступлений, отличающихся своей корыстной направленностью, позволяющей определиться с выбором правовой формы использования специальных знаний для выяснения обстоятельств таких преступлений.
Так, специалист-криминалист, приглашенный следователем для участия в осмотре места квартирной кражи, исследуя её материальную обстановку и комплексно представляя себе следовую картину, может провести ситуалогиче-ское её исследование и высказать по обнаруженным следам обоснованные суждения:
-
а) о способах проникновения посторонних лиц в охраняемое помещение, в том числе характерных для несовершеннолетних;
-
б) об орудиях, использованных для взлома запирающего устройства, чаще других выбираемых несовершеннолетними для таких целей;
-
в) о личности преступников – их возрасте, составе группы, характерном для подростков и детей поведении;
-
г) о других криминалистически значимых признаках расследуемого события, участником которого стал несовершеннолетний.
Иногда специалисту удаётся обнаружить в материальной обстановке признаки, позволяющие конкретизировать корыстные мотивы, которыми преступники руководствовались. Например, локализация и характер следов на месте кражи позволяют судить об осведомленности преступника о местах хранения похищенных ценностей и т.д.
Надо полагать, что иных правовых форм использования специальных знаний потребует диагностика признаков, определяющих специфику действий несовершеннолетних преступников, совершающих насильственные преступления. Само по себе насилие приводит к таким изменениям в организме жертвы, которые потребуют привлечения для их осмотра сведущих в медицине лиц, способных ответить на многие вопросы: а) о времени причинения повреждений, их характере и степени тяжести; б) об использованных преступником орудиях; в) о способе совершенного над жертвой насилия, особенности которого иногда дают основания судить о принадлежности преступника к определенной возрастной группе.
Специалист в области судебной медицины, однако, не единственное сведущее лицо, принятие решения о привлечении которого может быть обусловлено криминалистическими особенностями совершаемых несовершеннолетними насильственных преступлений. Помимо них, при расследовании и разбирательстве в суде таких дел могут быть востребованы сведущие лица и иной специализации, приглашаемые по усмотрению следователя (дознавателя). Их привлечение к производству по делу может оказаться полезным для выяснения, прежде всего, обстоятельств, указывающих на участие в преступлении именно подростков. Это особенно важно для принятия решений на этапе проведения доследственной проверки полученных сообщений о насильственном преступлении. Например, специалист в области трасологии или криминалистического оружиеведения, исследуя повреждения на одежде и теле трупа, может обнаружить в них признаки, характерные для использования определенных видов орудий, и основываясь на своих знаниях о том, какие орудия чаще выбирают для совершения преступлений именно несовершеннолетние, высказать предположение о личности преступника и его принадлежности к определенной возрастной группе.
Помимо криминалистических особенностей самого преступления, выбор правовой формы использования специальных знаний, конечно же, зависит и от того, какие вопросы предстоит решить следователю (суду) путём обращения к сведущим лицам. В одних случаях сделать такой выбор не представляет большой трудности, для этого достаточно знать, решением каких вопросов занимается конкретная отрасль специального знания. Так, нетрудно выбрать форму использования специальных знаний, если возникают вопросы, касающиеся здоровья несовершеннолетнего обвиняемого. Любому ясно, что это должны быть лица, сведущие в медицине.
В других случаях выбор оказывается не таким простым. Особенно, когда требуется определить узкую специализацию сведущего лица, необходимую для решения конкретного вопроса. Например, далеко не каждому следователю или судье известны пределы компетенции уролога и сексолога, дающие основания их разграничивать, чтобы обоснованно решить, к кому из них следует обратиться для решения, например, вопроса о способности конкретного несовершеннолетнего, заподозренного в сексуальном насилии, совершить половой акт, или об уровне полового созревания подростка, задержанного по такому уголовному делу.
Проблема может возникнуть у следователя (суда) и с выбором между лицами, сведущими в области психологии и психиатрии, педагогики и психологии, между экспертом-почерковедом и специалистом по техническому исследованию документов и т.д. От правильности выбора по признакам специфики поставленного вопроса будет зависеть и обоснованность правовой формы использования специальных знаний для ответа на него.
Особую актуальность проблема приобрела в связи с расширением круга следственных действий, в производстве которых педагоги и детские психологи вправе или обязаны участвовать. Оценивая эту законодательную инициативу, многие авторы особо отмечали важность данного нововведения, прежде всего, с точки зрения защиты прав несовершеннолетних.
Тем не менее, некоторыми учеными высказывались и откровенно ошибочные оценки дополнений, введённых в УПК в 2013 году. Так, М.А. Шувалова, справедливо отметив существенное расширение «гарантий несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства», отмечает, что «благодаря внесенным изменениям в ч. 1 ст. 191 УПК РФ … при проведении других следственных дей- ствий, производство которых связано с участием несовершеннолетних обвиняемых, подозреваемых, также привлекается педагог или психолог» [4, с. 33].
Чтобы не быть голословным, обратимся к тексту закона. Формулировка части 1 ст. 191 УПК РФ, о которой ведёт речь М.А. Шувалова, на самом деле звучит так:
«1. При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно. При производстве указанных следственных действий с участием несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя. Указанные следственные действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет не могут продолжаться без перерыва более 30 минут. При производстве указанных следственных действий вправе присутствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля»1.
Как можно заметить, положения части 1 ст. 191 УПК РФ, распространялись не на всех несовершеннолетних, привлекаемых к участию в перечисленных здесь следственных действиях, а только на несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. Во всех остальных частях статьи 191 УПК (ч. 2-5) круг несовершеннолетних, о которых в ней говорится, также оказался ограничен свидетелями и потерпевшими. Это могло означать лишь то, что педагоги и психологи, как и раньше обязательно привлекались следователем лишь к допросу несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых (ст. 425 УПК РФ), так и сегодня в обязательном порядке участвуют только в данном следственном действии, и никаком ином. Вряд ли здесь было уместным расширительное толкование круга несовершеннолетних, участие которых в перечисленных в ст. 191 УПК РФ следственных действиях (очной ставке, опознании, проверке показаний на месте), обязывает следователя привлекать педагогов или детских психологов.
В заключении хотелось бы отметить, что дискуссии о сущности специальных знаний, о функциях и пределах компетенции экспертов и специалистов и по многим другим вопросам использования знаний сведущих лиц в уголовном процессе продолжаются с большей или меньшей активностью. И сегодня не утихают, нередко возвращая ученых к давно, казалось бы, решенным проблемам. И такой интерес понятен, поскольку субъектам процессуального знания всегда важно знать, в чём состоит суть специальных знаний, востребуемых в уголовном процессе, какие из них вправе использовать специалист, а какие эксперт, каковы пределы полномочий того и другого. Отвечать на эти вопросы приходится всякий раз, когда возникают сомнения в правомерности обращения к сведущим лицам за разъяснениями по поводу устанавливаемых обстоятельств уголовного дела, требующих специальных знаний или навыков.