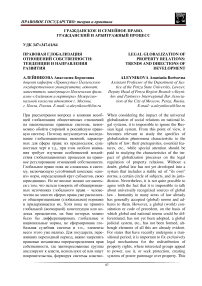Правовая глобализация отношений собственности: тенденции и направления развития
Автор: Алейникова Анастасия Борисовна
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Гражданское и семейное право. Гражданский и арбитражный процесс
Статья в выпуске: 1 (55), 2019 года.
Бесплатный доступ
При рассмотрении вопроса о влиянии всеобщей глобализации общественных отношений на национальные правовые системы, невозможно обойти стороной и российскую правовую систему. Поэтому актуализуется исследование глобализационных явлений, характерных для сферы права: их предпосылок, сущностных черт и т.д., при этом особого внимания требует изучение особенностей воздействия глобализационных процессов на правовое регулирование отношений собственности. Глобальное право пока не сложилось в систему, включающую устойчивый комплекс «своих» норм, определенный круг субъектов, свою юрисдикцию. Но не вполне можно согласиться с тем, что нельзя говорить об общепризнанных источниках глобального права - человечество во многих сферах права уже располагает общепризнанными (глобальными) нормами и придерживается их. Хотя пока не принято глобальной (всемирной) конституции или кодекса прецедентов, на базе которых можно было бы дифференцировать глобальные и национальные нормы, не сформирована глобальная судебная система и т.п., элементы всего этого уже налицо. Для государств, переживших переходный период, важно закрепить правовые механизмы перераспределения прав собственности, где заинтересованные группы апеллируют к власти, используют её или ищут покровительства, формируя системы властного патронажа над собственностью. Этот путь в новых рыночных экономиках представляется традиционным, но политические решения по собственности сигнализируют о том, что власть выходит за правовые пределы своего участия в процессе перераспределения прав собственности. Поэтому необходимо комплексное правовое регулирование отношений собственности.
Отношения собственности, глобализация, комплексное правовое регулирование, механизмы перераспределения, судебная система
Короткий адрес: https://sciup.org/142234134
IDR: 142234134 | УДК: 347+347.61/64
Текст научной статьи Правовая глобализация отношений собственности: тенденции и направления развития
Глобальное право пока не сложилось в правовой систему, включающую устойчивый комплекс «своих» норм, определенный круг субъектов, свою юрисдикцию. Не вполне можно согласиться с констатацией «отсутствия общепризнанных источников» глобального права [11], человечество уже располагает во многих сферах и придерживается общепризнанных (глобальных) норм. Другое дело, что пока не принято глобальной (всемирной) конституции или кодекса прецедентов, на базе которых можно было бы дифференцировать глобальные и национальные нормы, не сформирована глобальная судебная система и т.п., хотя элементы всего этого уже налицо. Правовая глобализация трансформирует традиционные формы политико-правовой организации, мобилизует новые источники, предлагает новые механизмы разрешения конфликтов, выдвигает новые правовые концепции. Так, глобальное право формирует новую парадигму не только познания, но и преобразования правовой реальности.
Исходя из того, что право регулирует, как правило, уже сложившиеся общественные отношения, глобализация права будет «вторична». Она как регулятивная система регламентирует те отношения, которые уже приобрели глобальный характер, т.е. характерны для человечества. Здесь проявляется необходимость в универсализации и унификации [22]. Глобализация окончательно «доказала» жизненность теории конвергенции как социальнополитических, так и государственно-правовых систем. Их сближение шло в соответствии с принципами парадигмальности (т.е. в процессе правовой аккультурации) и скоррелированно-сти, т.е. наличия статической взаимосвязи правовых систем и их элементов, где изменение одной системы ведет к изменению нескольких или всех [4, с. 40].
В современной российской литературе активно обсуждаются вопросы правовой конвергенции и глобализации, «правовой аналог» которой в широком смысле рассматривается как сетевая интеграция общего права («jus commune») в социальную основу и структуру государств [10, с. 35]. В данном случае выделяется национальный и международный (региональный, глобальный) уровни правовой глобализации. Эти процессы, начавшиеся ещё в Новое время, когда законодательство метрополий в значительной мере определяло и потом предопределило законодательство колоний, приобрели новое качество и определенную завершенность к концу XX века, когда произошел качественный прорыв системной интеграции права.
Именно к этому времени усилиями международных организаций и, прежде всего ООН, было сформировано международное конвенционное право, интенсивно и, в основном, в практических интересах, развивалось сравнительное правоведение. В связи с формированием глобального рынка товаров, капиталов и услуг, предельно возможная унификация права стала экономически выгодна, так как позволяла минимизировать предпринимательские издержки и развивать экономическое сотрудничество. На этой основе было регламентировано взаимо- действие в рамках ЮНКТАД, ВТО и т.п. Постепенно были институциализированы универсальные надгосударственные юридические инструменты. В большинстве юрисдикций шли активные унификационные процессы. Так, на межгосударственном уровне сформировалось общее европейское право, транснациональные корпорации выработали свои корпоративные правовые практики и стандартизованные правовые конструкции. Многие процессы экономической глобализации потребовали не просто сближения правовых систем, а разработки совершенно нового регулирования для сфер, которых ранее не существовало. Например, для виртуальной экономики, т.е. сферы, где обращаются виртуальные продукты и деньги, работают виртуальные компании и т.п. Виртуализация экономики вызвала коммерциализацию киберпространства, которое глобально и требует соответствующего регулирования, причем специфического для виртуальных банков, своего - для интернет-супермаркетов, своего - для виртуального документооборота [3, с. 19]. Особенность виртуальной организации бизнеса состоит в сосуществовании компаний и бизнес-элементов, не связанных структурными ограничениями и совместно достигающих взаимовыгодных целей [8].
Содержание правовой глобализации весьма многоаспектно и в литературе соотносится с интернационализацией и унификацией [4]. В числе общих закономерностей глобального развития правовых систем принято называть: интернационализацию, конвергенцию, транспарентность, правовую инфильтрацию [23]. В целом, эти процессы положительно оцениваются как в правовой, так и в экономической и политической литературе. В то же время, как отметил В.Д. Зорькин, в России, в силу отсутствия либо слабости традиций саморегулирования и регулирования отношений частной собственности, часто некритически и неадаптивно из «мирового опыта» перенимаются и затем воспроизводятся, причем не в сфере права как такового, а в нормативных лакунах правотворчества, а также хозяйственной практики - пусть и глобальные, но разрушительные для социальности и российской государственности тенденции [12]. Противостоять этому сложно, так как процесс считается новым и не вполне изученным. Правовая глобализация, как это ни парадоксально, не глобальна. Так, например, экономически открытый всему миру Китай закрывает западным инвесторам и компаниям наиболее привлекательные структуры проектного финансирования, так как законодательство КНР все еще не допускает прямую иностранную собственность какой-либо компании, тем более, если она способна оказывать существенное влияние на инфраструктуру. Западные партнеры вынуждены довольствоваться формой совместных предприятий, чтобы получить «некоторую возможность» принять непосредственное участие в строительстве «и, возможно, в собственности» [19].
Глобализация - процесс объективный, в отличие от известных политических течений она не радикальна и не стремится «разрушить до основания…», так как ей не на что будет «опереться». В этом смысле следует согласиться с Р.Х. Макуевым в том, что глобализация усиливает смысл и содержание правовых основ суверенитета [15, с. 23]. Собственно и всё «надгосударственное» может существовать только при наличии точки опоры «над- », т.е. суверенных государств [18, с. 12], иначе глобальное «над- » просто «повиснет». Для реализации суверенитета государство должно сохранить за собой реализацию базовых суверенных прав. Право собственности сюда относится в первую очередь, так как оно обеспечивает экономическую самостоятельность всех субъектов хозяйственных отношений, включая и государство. Речь идет, в том числе, и о дискуссионных (или, по крайней мере, обсуждаемых) сегодня вопросах собственности на недра и ресурсы. Так, в Европейском Союзе, хотя наднациональным институтам и делегированы многие права, сами члены Союза сохраняют независимость именно потому, что оставляют за собой реализацию ряда суверенных прав.
Сложность и противоречивость анализируемых процессов нередко создает у российских исследователей иллюзию новизны, «открытия» большинства вопросов в этой сфере. Отсюда часто в современной правовой литературе вопросы глобализации права представляются как новые, что не вполне соответствует действительности.

Ещё в начале XX века Н.Д. Сергеевский указывал на узость «положительного права одного народа», призывая привлекать «определения права других государств». Автор исходил из теоретических посылок современных глобализационных процессов, указывая на то, что «цивилизованным народам» «не суждена замкнутая жизнь». Уже в то время «международные влияния» проникали во все сферы, и их нельзя было игнорировать. Н.Д. Сергеевский указывал на формирование международными сношениями «общенародных институтов», которые не только не мешали самостоятельному развитию национальных институтов, а, наоборот, развивали себя «знакомством с правом других стран» [6, с. 2]. Автор совершенно обоснованно указывал на то, что Россия просто обречена на правовую глобализацию уже в силу того, что «все наше новое судопроизводство иностранного происхождения», и этот пример не единичен. В начале XX века автор не видел ни одного современного ему «уложения Европы», включая и российское, которое бы осталось «без иноземного влияния». «Иначе быть не может», заключает С.Д. Сергеевский, полностью отрицая всякую проповедь «исключительной национальной замкнутости», которая бы означала «отрицание всей новейшей истории» и подменяла бы «реальную действительность своей собственной, произвольной утопией» [6, с. 3]. Сегодня указанные процессы приобрели завершенную форму в праве Европейского союза.
М.Н. Марченко обоснованно исторически глубоко прослеживает универсализацию и унификацию права в «эволюции государственно-правовой материи», отмечая, что с наступлением глобализации эти явления максимально ярко проявились и перешли из эволюционной во «взрывную», «революционную» стадию [5, с. 279, 280]. Это положение не бесспорно. Во-первых, глобализация началась с началом Великих Географических открытий, когда европейцы распространили свое право, включая и право собственности, на весь мир, что также следовало бы считать «революцией». Во-вторых, анализируя институт собственности, мы бы остереглись использовать понятие «революция», так как собственность исторически не любит «революций», предпочитая стабильность и консервативный порядок как в обществе, так и в праве. При этом, глобализация не просто унифицирует, а существенно меняет структуру международных отношений, оказывая влияние на международно-правовое регулирование, стимулируя развитие международно-правовой теории в части внесения концептуальных новаций субъектам международного права. Современные глобальные вызовы постоянно стимулируют поиск эффективных правовых форм и способов разрешения конфликтов, противоречий, регуляции отношений, способствуя развитию научно-правовых парадигм.
В то же время, глобализацию права не стоит переоценивать. Безусловно, она, как объективный процесс, определяет (направляет) существенные изменения в жизни современного общества, «имея яркие правовые проявления», но они вряд ли способны менять «содержание основных правовых понятий, категорий» [17, с. 1]. Эти категории, прежде всего такие как собственность, в своей сути не меняются, а наоборот, скорее «консервируются» и далее универсализируются. Однако, в своем функциональном назначении многие понятия и дефиниции трансформируются, обеспечивая, таким образом, универсализацию нормативных и в целом интеллектуально-психологических сегментов национальных правовых систем.
Современное национальное право включает все больше норм, определенных международно-правовыми актами (право прав человека, гуманитарное право и и.п.). Отсюда А.И. Бойко делает, вероятно, адекватный для 2009 г., но выглядящий поспешным сегодня вывод о том, что «преобладание интеграционных тенденций… с непреложностью свидетельствует о приближении конца эпохи абсолютно автономного творчества парламентов и независимости национальной юстиции» [2, с. 15]. Миграционный кризис в Европе и геополитический кризис вокруг Украины показали, что это не совсем так, независимость национальной юстиции ещё востребована, а международные нормы понимаются по-разному. На этом фоне возникают и отрицательные воздействия как на общую, так и на национальные правовые системы.
Так, нельзя не процитировать В.Д. Зорькина, который усматривает в действиях систем глобальных ТНК и ТНБ, имеющих огромный финансово-производственный потенциал (зачастую превышающий потенциал крупных государств), «огромное влияние» как на локальную, так и на глобальную экономику, что не может не угрожать конституционным правам граждан в сфере частной собственности [12]. Современный «турбокапитализм» [20] порождает риски быстрого и почти (как показал последний мировой финансовый кризис) непредсказуемого возникновения и разрастания кризисных процессов как в отраслевом, национальном, так и в глобальном масштабе. Эти риски, как подчеркивает В.Д. Зорькин, прямо влияя на реализацию права собственности огромных масс людей, фактически «находятся вне сферы полноценного правового регулирования» [12]. Глобальные угрозы праву собственности, после последнего кризиса были осознаны политиками и научным сообществом, но нормативных гарантий от их повторений пока нет. Призывая к развитию хозяйственно-экономических отношений, он выделяет «проблемные тенденции» их правового обеспечения в неуклонно глобализирующемся мире. В данном случае, автор указывает на отставание нормативно-правовой базы указанных отношений от развития их социального содержания, которое также быстро ускоряется в связи с глобализацией [12]. Россия поздно вступила в сферу глобализации отношений собственности в силу исторических причин. Крушение социалистической системы нарушило баланс ценностей экономической свободы и социальной справедливости, который, по оценке В.Д. Зорькина, стал не только основной отличительной чертой, но и основной проблемой всей постсоветской трансформации отношений собственности, корни которой уходят в приватизацию. Её результатом стало «ощущение несправедливости в ключевом конституционном вопросе о собственности» [12].
Именно в нелегитимности собственности В.Д. Зорькин видит, в конечном итоге, основную причину неэффективности российской экономики, равно как и низкую конкурентоспособность российской судебно-правовой системы в сравнении с правовыми системами других государств. Нелегитимность собственности не дает общественной поддержки представителям российского крупного бизнеса, формирует негативный массовый социальный фон, на котором даже неправовое (рейдерское) перераспределение собственности значительная часть общества воспринимает как «восстановление справедливости» [12].
Российская Федерация осторожно, с учетом правовой позиции, выраженной Конституционным Судом РФ в Постановлении от 14.07.2015 № 21-П [1], входит в процессы глобализации права, не позволяя последней «снижать роль национального государства», так как только сильное государство, использующее слаженные правовые механизмы, имеющее систему обеспечения и защиты прав человека, способно создать условия для адаптивного вхождения в международную экономическую и правовую среду, не ущемляя при этом национальные интересы [12]. Осторожность эта связана, в большей степени, не с признанием и применением (хотя оно и проблемно в России) общепризнанных норм в сфере прав человека, а с имплементацией норм, касающихся собственности. Проблема здесь состоит в том, что глобальным сегодня чаще всего признается международное торговое (экономическое) право [16, с. 234], включая нормы, возникающие непосредственно из договорных отношений национальных государств, а также транснациональных корпораций и финансово-кредитных институтов, которые, собственно, и сформировали глобальную экономику. Соответственно, во многом они есть субъекты и разработчики глобального права, что не всегда устраивает государства.
На вызванные глобализацией сущностные перемены в отношениях собственности обратили внимание, прежде всего, экономисты. Глобализация способствовала существенному усложнению отношений собственности, диверсификации ее форм, их взаимодействия и конкуренции. Сегодня субъектами отношений собственности становятся как группы частных и индивидуальных собственников, так и государство, территориальные сообщества, транснациональные монополии. Эволюционное развитие расширило границы института собственно-

сти так, что их проявление стало содержательно размытым, так как объектами собственности теперь могут стать как материальные, так и идеальные (виртуальные) активы [3, с. 25]. Таким образом, основные направления развития комплексного правового регулирования отношений собственности в условиях глобализации нуждаются как в комплексном правовом, так и в экономико-правовом исследовании. Экономическое содержание собственности в целях правового регулирования может быть раскрыто через объектно-субъектные отношения по поводу и в процессе производства, распределения (включая обмен) и потребление ресурсов и благ, а также опосредованные их присвоением – отчуждением всей совокупностью субъектов общественных отношений (включая и правовые отношения).
В отличие от предыдущей эпохи, где доминировала овеществленная собственность, в виртуальной (как правило, финансовой) экономике доминирует обезличенная, деперсонифи-цированная собственность, легко переходящая из рук в руки. Таким образом, собственность отчуждается от своего субъекта. Виртуальная экономика тотально коммерциализирует киберпространство, в котором работают виртуальные копии (и конкуренты) супермаркетов, банков, оперирующие виртуальной валютой, идет виртуальный документооборот и т.д. Виртуальная глобальная экономика концентрирует капитал, обобществляя его, что приводит к снижению степени самостоятельности и автономности в принятии собственником ключевых, стратегических решений. При этом нарастает влияние внешней среды – кредиторов, акционеров и пр. На этом фоне прогресс технологий и рост производства обуславливают дифференциацию капитала-функции и капитала-собственности. Признавая обезличенную собственность и формы её реализации результатом естественного, эволюционного процесса развития, следует связать трансформацию экономических отношений собственности в виртуальной экономике с её индивидуализацией в рамках развития глобального хозяйства [14, с. 129].
Также представляются значимыми вопросы универсализации правовых регуляторов в сфере экономики, где особенно важно однообразное понимание вопросов собственности. Развитие глобальной цифровой экономики формирует новый по характеру и механизмам реализации институт собственности, который, усложняясь по своей структуре (происходит иерархизация) и организации (сетевой характер), приобретет подвижность, образует новые формы, которые требуют особой правовой защиты [3, с. 28]. Международная правовая интеграция строится в направлении формирования общего правового поля режима собственности, в котором бизнес и инвесторы имели бы одинаковые твердые гарантии. Такая глобальная система международно-правового регулирования могла бы обеспечить условия развития не только глобальной экономики, но и международного права. В целом требуется современное правовое обеспечение объективно идущего процесса глобализации производительных сил, расширяющегося воспроизводства глобальных цепочек создания стоимости, которые составляют сегодня материальную базу экономической глобализации [13, с. 18].
Российской особенностью является то, что, в отличие от мировых трендов, многократно декларированные цели и задачи диверсификации экономики, её модернизации и инновационного развития «на практике далеки от решения», а упор по-прежнему делается на эффективное воспроизводство энергетического сектора, который остается жизненно важным не просто для российской экономики, а и для российской государственности [9, с. 86]. В этой связи усматривается противоречие между глобальными потребностями в регулировании отношений собственности уже в новой цифровой экономике и российскими реалиями, когда не полностью урегулированы отношения в рамках экономики предыдущего уклада. Здесь принято делать акценты на двух формах перераспределения собственности в России: национализации и рейдерстве [7, с. 12]. Основные направления развития комплексного правового регулирования отношений собственности в условиях глобализации, в основном, сводятся к формированию в интересах экономического развития, максимально сближенного правового режима собственности во всех юрисдикциях. Именно об этом, в том числе, шла речь на самми- те G20 в Аргентине в ноябре 2018 г. [21]. Базой и исходным пунктом всех направлений развития комплексного правового регулирования отношений собственности в условиях глобализации остаются твердые правовые гарантии всех форм собственности, недопустимость её произвольного изъятия (конфискации, национализации). Кроме того, правовое регулирование должно обеспечивать соразмерность налогового бремени для обеспечения процесса воспроизводства отношений собственности, которая может быть реализована лишь при доходном участии собственника факторов производства в финансовом результате. Когда его нет или он не обеспечивает потребности производства и обеспечения уровня жизни, то отношения собственности не могут расширенно воспроизводиться. В этом случае потребности государства в виде чрезмерных налогов возобладают над воспроизводством собственности, между ними возникает конфликт, разрешение которого в правовой плоскости требует значительных затрат. В данном случае, комплексное правовое регулирование отношений собственности в условиях глобализации с необходимостью нуждается в максимальном сближении принципов налогового регулирования, доведения их до относительного однообразия.
Также необходим глобальный правовой механизм защиты отношений собственности. Особое внимание здесь уделяется корпоративному праву, так как уроки последних кризисов показали, что менее других защищены доходное (дивидендное) участие акционеров в прибыли, а также их участие в стратегическом управлении корпорацией и доступ к достоверной информации. Для государств, недавно прошедших переходный период, важно закрепить исключительно правовые механизмы перераспределения прав собственности, где заинтересованные группы апеллируют к власти, используют её или ищут покровительства, формируя системы властного патронажа над собственностью. Этот путь в новых рыночных экономиках представляется традиционным, но политические решения по собственности сигнализируют о том, что власть выходит за правовые пределы своего участия в процессе перераспределения прав собственности. Отсутствие такого правового механизма институционально переплетает власть с собственностью.
Правовое регулирование должно обеспечить обособленность оборотов денежного и финансового капитала как объектов собственности, что расширит потенциал перелива и миграции капитала, будет содействовать глобальным инвестициям. В то же время правовое регулирование рыночных процессов должно быть выстроено так, чтобы сдерживать спекулятивный капитал, его миграцию в «серый» сектор и не допускать (как это было в период последнего кризиса) дестабилизации экономики.
Список литературы Правовая глобализация отношений собственности: тенденции и направления развития
- Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П / Собрание законодательства РФ. 2015. № 30. Ст. 4658.
- Бойко А.И. Системная среда уголовного права: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008.
- EDN: NJIQXP
- Рязанова О.Е. Трансформация института собственности в условиях глобализации экономики: автореф. дис. … д-ра экон. наук. М., 2009.
- EDN: OQTBJG
- Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории и практики. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011.
- EDN: SDQRUZ
- Марченко, М.Н. Государство и право в условиях глобализации: монография. М.: Проспект, 2013.