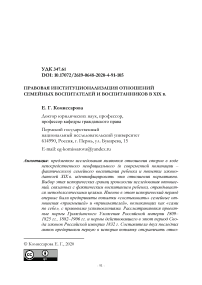Правовая институционализация отношений семейных воспитателей и воспитанников в XIХ в
Автор: Комиссарова Е.Г.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Гражданское право и процесс
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
Предметом исследования являются отношения сторон в ходе непосредственного неофициального (в современной номинации -фактического) семейного воспитания ребенка и попытки законодателей ХТХ в. идентифицировать эти отношения нормативно. Выбор этих исторических границ хронологии исследования отношений, связанных с фактическим воспитанием ребенка, оправдывается методологическими целями. Именно в этот исторический период впервые были предприняты попытки «состыковать» семейные отношения «приемышей» и «принимателей», возникающих как «сами по себе», с правовыми установлениями. Рассматриваются проектные нормы Гражданского Уложения Российской империи 18091825 гг., 1882-1906 гг. и нормы действовавшего в этот период Свода законов Российской империи 1832 г. Составители двух последних актов предприняли первую в истории попытку отграничить отношения, связанные с непосредственным семейным воспитанием сторонних детей, от множества других, в ряду которых оно исторически пребывало. Прогрессивна также попытка составителей проекта Гражданского Уложения 1882-1906 гг., спроектировавших сущностные признаки этого правового явления через разделение личных и имущественных норм в регулировании отношений между воспитателями и воспитанниками. Основными методами исследования являются принципы историзма и метод единства исторического и логического анализа.
Неофициальные воспитанники, простые приемыши, приниматели, воспитатели, фактическое воспитание
Короткий адрес: https://sciup.org/147230078
IDR: 147230078 | УДК: 347.61 | DOI: 10.17072/2619-0648-2020-4-91-105
Текст научной статьи Правовая институционализация отношений семейных воспитателей и воспитанников в XIХ в
Ц ель обращения к историко-правовому прошлому тех или иных семейноправовых явлений обычно объяснять не принято. Она обычно выглядит «сама собой», поскольку не тождественна тем целям, которые характеризуют современные правовые исследования.
Неявность исследовательской цели в историко-правовых исследованиях или ее неосознанность автором обычно компенсируются простым обращением к отдельным эпизодам правовой истории, не всегда обеспеченным значимыми теоретическими обобщениями со стороны автора. Отсутствие последних обычно сообщает, что реальная цель такого обращения не только не осознана, но и не встроена в общетеоретический контекст исследуемой проблемы. В то же время «именно целеполагание является первичной и главной фазой исследовательского процесса, подчиняющим его себе. От правильности постановки цели зависит и успех исследования, и его конечные результаты»1.
Сформулируем исследовательские цели применительно к теме заявленной статьи. Их как минимум три.
Во-первых, присутствие в теме фактического воспитания историкоправовых корней – свидетельство того, что она содержит яркие признаки историзма, предписывая рассматривать исследуемые явления и сам процесс познания в конкретно-исторических условиях. Однако актуальное правосознание так или иначе затушевывает контексты прошлого. Для их сохранения важно увидеть исторические, экономические и социальные причины появления этого вида отношений, последующей их динамики в виде отпочкования от других явлений, относящихся к детскому призрению, для того, чтобы понять, чем и зачем оно стало и чем может стать в будущем. Добытое на этой основе знание – весьма существенный теоретико-методологический корректор того современного научного положения, которое сложилось в семейно-правовой науке в связи с присутствием однонаправленных выводов о необходимости полноразмерного отражения в действующем семейном законодательстве должной модели отношений по фактическому воспитанию ребенка.
Во-вторых, исторические экскурсы в тематику фактического воспитания ребенка в науке семейного права носят явно фрагментарный характер. Их содержательное наполнение обычно связано с пространными фактами из древности без предметной авторской аналитики добытого материала либо – что чаще – с обращения к юридической конструкции фактического воспитания, появив- шейся в Кодексе законов о браке, семье и опеке 1926 г.2 после введения в него в 1928 г. статьи 42.3. Эта норма включила фактических воспитанников в круг «иных членов семьи», по отношению к которым фактические воспитатели становятся алиментообязанными лицами в случае отказа от их воспитания. Неоправданное сужение рамок исторической представленности процесса правовой идентификации отношений по фактическому воспитанию не дает оснований считать, что эволюционные закономерности развития, модификации и последующего вычленения этого явления из числа других познаны.
В-третьих, политико-правовые идеи, связанные с отношениями по непосредственному неофициальному воспитанию несовершеннолетнего ребенка, нашедшие воплощение как в проектных, так и в законотворческих результатах в ХIХ в., крайне редко актуализируются в современных исследованиях темы фактического воспитания ребенка. Перед нами тот самый случай, когда «дореволюционную науку стали сбрасывать с корабля современности еще до того, как ее удалось на него погрузить»3. В то же время нетенденциозное обращение к этому историческому периоду имеет определенный методологический потенциал для современных исследователей, предопределяя подходы к изучению темы фактического воспитания ребенка и его надлежащей идентификации в ряду других форм семейного воспитания. Несмотря на то что идеи старой юриспруденции в этом вопросе не столь многочисленны и не могут быть отнесены к завершенным, сущностные признаки этого «полуюридиче-ского» явления оказываются вполне различимыми.
Дореволюционная источниковая база, имеющая отношение к отношениям по фактическому воспитанию ребенка, весьма своеобразна. Она, с одной стороны, необъятна, а с другой – весьма и весьма незначительна. И в этом тоже состоит одна из причин недостаточного теоретического внимания к дореволюционному экскурсу. Такой противоречивый дуализм объясняется не столько имплицитным характером исследуемого явления, сколько естественным для того исторического момента смешением отношений, связанных с непосредственным семейным воспитанием стороннего ребенка, с другими формами, отраженными в нормах обычного, канонического права и незначительной части полицейского права. Историческая значимость всех этих норм по обыкновению соотносится главным образом с тем, что они были ориентированы лишь на заботу о детях-сиротах. Между тем более тщательный исторический экскурс позволяет увидеть, что эти дети – пусть наибольшая, но все же часть огромной армии заброшенных и незащищен- ных детей. И в этом заключается одна из причин того, что извлечение из дореволюционных источников правовых и неправовых сущностей неофициального семейного воспитания в целях последующего их введения в современные правовые дискурсы требует исследовательской логики, анализа и синтеза, умения отделять правовое от неправового через постижение того ассоциативного ряда, в границах которого развивались это и смежные с ним явления.
Поиск в дореволюционном законодательстве самостоятельной терминологической конструкции «фактическое воспитание» не имеет смысла. Сопряжение терминов «фактическое» и «воспитание» появилось лишь в советском законодательстве в 1928 г., когда законодатель создал отдельную правовую конструкцию для обозначения «других членов семьи». Впоследствии сущность этой конструкции, заключенной в статье 42.3 КоБСО РСФРС 1926 г., будет интерпретироваться в качестве одной из «мер по охране детства», претендующей на роль «института фактического воспитания детей в семье, когда фактические воспитатели добровольно и сознательно берут на постоянное воспитание и содержание детей, родителями которых они не являются»4.
Прямых аналогов отношений, похожих на те отношения по фактическому воспитанию, какие существуют в современной социальной действительности, в этой истории нет. В ранней и более поздней дореволюционной теории и источника права первыми образами термина «фактическое воспитание» были такие повседневные и общеупотребительные термины, как «приемыш», «приемный сын (дочь)», «детище», «приймак», «питомец», «воспитатель», «приемщик», «приниматель», «воспитанник». Все они обозначали самые разные понятия, относящиеся как к собственным неузаконенным, так и к сторонним детям, которые были оставлены родителями, брошены, переданы на прокормление в общину или и «в труд», а также родственникам и чужакам по причине бедности родителей. С. В. Пахман именовал этих детей особыми членами семьи на правах детей5.
Незрелость, несовершенство и незавершенность законодательных идей дореволюционного времени о детях, попадающих на фактическое содержание вне существующей семьи, всецело дополнялись неявностью этого явления. В истории для этого были одни причины, главным образом социальноэкономические, сегодня – другие, связанные с изменением семейных практик в целом и практик семейного воспитания в частности.
Хронологию русского кодифицированного нормотворчества в сфере семейно-правового регулирования за 100 лет до революции современные историки права связывают с тремя этапами. Первый относится к периоду составления проекта Гражданского уложения 1809–1814 гг.6
Первая часть этого проекта, имея наименование «О правах личных», состояла из трех глав: о браке (о доказательствах законного рождения, о детях незаконнорожденных, об усыновлении), о власти родительской, об опеке. Эти три сферы повседневного семейного существования больше всего заботили императорскую власть, а потому были актуальными для светского права, создатели которого были заинтересованы в разделении юрисдикции государства и церкви в этих вопросах из жизни семьи.
Чуть раньше, во второй половине ХVIII в., законодатель уже задавался этими вопросами при составлении Начертания о приведении к окончанию проекта нового Уложения от 7 апреля 1768 г.7 Основные пункты этого документа, были подвергнуты анализу составителями проекта Уложения 1809– 1814 гг., т. к. в проекте Уложения 1768 г. все нормы довольно четко разделялись на те, что составляют «тело» государства, – для всех, ради общей пользы народов (общая часть), и нормы, «касающиеся до права особенного, которое сделано для пользы каждого лица особенно»8. К разряду наиболее актуальных «прав особенных» были причислены вопросы опеки над несовершеннолетними и слабыми (безгласными): «…законы долженствуют безгласному гражданину чинить покровительство»9, «…родившийся требует призрения», «…люди от своего супружества не имеют детей, а желают принять кого-либо в свое усыновление из чего происходит порядок усыновления»10. Примечательно наставление, сопровождавшее эти особенные правила: «…все сии учреждения требуют великой осторожности и иногда многим подробностям подвержены»11.
Как отметили впоследствии теоретики права, в стремлении укрепить убеждение в том, что парадигма современного юридического мышления сложилась именно во второй половине XVIII в. и в течение XIX в., текст Начертаний стал «одной из попыток «создания частноправовой сферы жизнедеятельности»12.
Период составления проекта Гражданского уложения 1809–1814 гг. получил название величайшего законодательного переворота (по Ф. М. Дмитриеву (1868)). Одной из причин такой оценки было появление нового отношения к праву, роль которого перестала сводиться главным образом к сфере фиксации обычаев, уступая место попыткам создания новых норм и правил. Однако больших законотворческих результатов попытки создателей проекта Гражданского уложения 1809–1814 гг. не принесли. Как отмечал член комиссии по упорядочению русского права М. М. Сперанский, причина была в «неподготовленности материалов, недостатке сведущих людей, трудностей самой задачи». Роль этого проекта в истории русского законодательства принято ограничивать тем, что «в нем были заложены основы методик и практической работы по созданию Свода законов Российской империи 1832 г.»13.
О недостатке на тот момент сведущих людей наглядно свидетельствует Систематический указатель русской литературы по гражданскому праву за период 1758–1904 гг.14 В нем не зафиксировано ни одного источника на период составления проекта Гражданского уложения Российской империи в 1809–1825 гг. Это вполне объяснимо, ведь период становления русской юриспруденции как науки был еще впереди.
Ситуация с отсутствием сведущих людей, названная позднее Д. И. Мейером недостатком научных сил, не была разрешена и на момент составления Свода законов Российской империи в 1832 г., в котором правила о семейном воспитании приемных детей обрели неполную и весьма неточную, но все же позитивную известность. Занимая до этого промежуточное положение между официальным и неофициальным устройством в семью и устройством учрежденческим, в нормах Свода законов оно стало ближе к семье благодаря попытке законодателя идентифицировать смежные с ними отношения: по узаконению, признанию, усыновлению, официальному принятию детей в семью на воспитание. Но и здесь было много смешанного, ситуационного, массового, противоречивого, иногда политического. Формы юридического мышления в этот период по-прежнему не имели необходимой теоретической зрелости, сословный характер общества с его дифференциацией прав в сфере семейных отношений порождал многочисленные терминологические пересечения и смешения. Какого-либо аналитического сопровождения принятые нормы по-прежнему не имели15. Главным ориентиром для их принятия тогда служила лишь текущая судебная практика.
Не имея возможности «одолеть» обычное крестьянское право, сформировавшее собственные образы общинной поддержки непосредственных воспитанников в лице сторонних детей, законодатель при составлении норм Свода законов ориентировался в основном на купеческую среду, употребляя для целей семейного устройства термин «воспитатель». Статус воспитателя ребенка при живых родителях могли получить однодворцы, городские обыватели, принявшие подкидышей, не помнящих родства, на воспитание, бессемейные солдаты-казаки, усыновившие малолетнего с согласия его родителей, и т. д.16. Отдельно выделялись случаи «добровольной отдачи родителями своего ребенка на определенное время постороннему лицу на воспитание с правом родителей требовать к себе детей от посторонних… без колебания родительской власти»17.
Сохраняя фрагментарный характер с одновременной замутненностью фактических приемных отношений разными видами других отношений (приймачество, узаконение, усыновление со всей его «церковной» собирательностью и частой неофициальностью), это регулирование одновременно отражало факты широчайшего распространения в повседневной социальной жизни отношений, «похожих на фактическое воспитание» в их неочевидном, а потому малоучтенном и неофициальном виде.
Правила о воспитателях и воспитанниках, в том числе фактических, получили относительно идентификационное отражение в проектных нормах очередного проекта Гражданского уложения Российской империи 1882 г., получившего статус акта буржуазной кодификации18. Это была уже другая нормативная история, создаваемая на фоне резкого возрастания роли идеологического и духовного факторов в государственном управлении и начала переосмысления значения государства с точки зрения отношения к семье. Формы обеспечения жизни детей в обществе начали меняться, получая распространение уже за счет не только политических дум о детях-сиротах. В литературно-художественном творчестве была открыта категория детства. Русским мыслителям стало доступно учение о социальной педагогике как науке, зародившейся в середине ХIХ в. в Германии19, чьи идеи оказали влияние на становление русского учения о семейном воспитании ребенка, основоположником которого считается В. Ф. Каптерев20. Явно обозначившееся стремление к догматико-правовому единству с правом Европы приблизило русскую юриспруденцию к исследованию детства как того состояния, «когда сама природа указывает человеку, еще не пришедшему в полный возраст, защитника, покровителя, воспитателя и представителя в лице родителей»21.
В этот исторический период крестьянство по-прежнему составляло большую часть российского населения, и создатели проекта не скрывали, что с помощью семейственных норм, направленных на этот социальный слой, они намеревались решить задачу ликвидации существовавшей юридической обособленности крестьянства22. Но и после отмены крепостного права нормы писаного права все еще имели мало поддержки в этой среде, уступая обычаям, обладающим преимущественно локальным и консервативным характером. Сохраняющиеся общинные правила жизни крестьянской семьи, синони-мируемой с домовладением, «хозяйственно-трудовой единицей», неизменно сопряженной с правами наследования земли членами крестьянской семьи, и недостаточная теоретическая исследованность крестьянской жизни и их обычного права создавали составителям проекта многочисленные трудности. Поэтому нормы о приемных детях, заключенные в главу V проекта Гражданского уложения 1882 г., снова были списаны не с него. Как и во всех европейских странах, ориентирующихся на лидирующие позиции дворянского сословия, в основу норм проекта, ориентированных на семейную идентичность и семейную заботу о детях, была положена сложившаяся практика «последующего узаконения» чужих детей, попавших в дворянские семьи.
Отталкиваясь от основополагающего, бывшего общеупотребительным понятия «принятие на воспитание» и терминологии действующей судебной практики23, составители проекта добавили в название главы V проекта Гражданского уложения сборный термин «приемыш». Несмотря на всю одновременную обыденность и безграничность, этот термин в разных вариантах отражал как юридические, так и фактические формы устройства детей в семью, по-прежнему тесно связанные с нормами об охране наследственного имущества того лица, которое на правах воспитанника входило в семью.
Таксируемость термина «приемыши» была во многом условной. В основу правил о приемышах была положена все та же запутанная практика усыновления и узаконения детей дворянами, ставшая «делом вполне обыденным, выходящим за все мыслимые правовые пределы в начале ХХ в.»24. Это положение исключало его наполненность каким-то однозначным понятием. Причина состояла также в том, что решение всех вопросов «дворянского узаконения» имело свои пределы в виде «изыскания мер к тому, чтобы достижение дворянского достоинства сделать менее доступным». Все это оказывало значительное влияние на далеко не единообразную практику принятия детей на воспитание в семью.
Составители проекта стремились разделить термины «узаконение детей» как разрешение на введение в состав семьи собственных незаконнорожденных детей с предоставлением им законных прав и «усыновление». Последний термин включал в себя понятие, связанное с принятием в семью чужих детей. Усыновление по общему правилу разрешалось бездетным дворянам с «монаршего соизволения». Но, во-первых, термин «узаконение» был слишком условным для того, чтобы с его помощью различить усыновление. Фактически он представлял собой «типичный образец законодательного компромисса» (по Ф. А. Брокгаузу). Во-вторых, вводимые с помощью терминов «узаконение» и «усыновление» понятия, нацеленные одновременно на функции разграничения и ограничения, не учитывали того, что в дворянских семьях по факту проживало немало неофициальных (приемных) воспитанников из числа заброшенных и подброшенных детей, а также пасынков и падчериц, детей родственников и знакомых из дворян, фактически усыновленных детей. Это были те личные случаи сострадания, привязанности, которые не ориентировали воспитателей только на имущественные интересы, а потому ранее в поле зрения законодателя не попадали совсем.
Стремясь учесть этот факт и «расщепить» термин «приемыши» на несколько видов правовых понятий, составители проекта в объяснениях Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения отмечали разность причин возникновения приемных отношений: «…один оставляет у себя подкинутого ребенка, другой из сострадания берет на свое попечение заброшенного ребенка или сироту, третий по каким либо причинам принимает к себе чужого ребенка, привязывается к нему и воспитывает как своего, иногда в качестве приемыша воспитывается внебрачное дитя, который, однако не обнаруживает истинного происхождения дитяти»25.
Это фактическое многообразие жизненных ситуаций, связанных с нахождением на воспитании в семьях дворян, мещан и крестьян сторонних детей, попытался учесть законодатель, принимая закон от 12 марта 1891 г. «О детях узаконенных и усыновленных»26. Документ вступил в действие уже после начала разработки проекта Уложения 1882 г. И снова жизненные реалии оказались намного разнообразнее, а потому «благодеяния» этого закона также не смогли внести полной ясности в отношения между воспитателями и воспитанниками. И после принятия этого закона, где в судебном порядке, но чаще – ввиду отсутствия общих подходов к толкованию норм закона – в порядке административном приходилось разбираться между усыновлением только своих воспитанников, приемышей, найденышей и чужих детей и различением оснований для их узаконения и усыновления27.
Социальный контекст того времени, когда составлялся проект Гражданского уложения 1882 г., и появление закона «О детях узаконенных и усыновленных» позволяют предположить, что термин «приемыши», использованный составителями проекта, отражал две группы понятий, в числе которых были «дети, попадающие в семьи по причине временной или постоянной невозможности родителей их содержать и воспитывать» и «дети-сироты, взятые в семью частным порядком». Но это были всего лишь условные ориентиры. На практике из них выводились многообразные последующие состояния, которые законодатель не мог учесть в полной мере, ориентируясь на существующие сословные ограничения.
В редакции проекта Гражданского уложения 1902 г. нормы о приемышах были представлены как нормы о семейном воспитании ребенка. Приемышами именовались лица, которые попадают в семьи не только из-за отсут- ствия родительного попечения, но и «с согласия родителей» (ст. 475 проек-та)28. Сословный характер общества, предполагавший разные официальные и неофициальные пути семейного устройства ребенка, не позволил составителям указать на порядок установления отношений между воспитателями и воспитанниками. В результате этого правовой образ приемных отношений, «помогающих детству», оказался не в полной мере завершенным. Чуть позже, уже после того, как проект был представлен на «уважение Государственной Думы» (январь, 1906 г.), в литературе того времени появилась достаточно четкая позиция о необходимости отделения семейного воспитания от социально-педагогического, относящегося к детям, лишенным родительского попечения. Однако для этого «следовало определиться с имеющимися значениями: усыновленные, приемыши, простые приемыши, открытое призрение (приемная семья), закрытое призрение (воспитательные учреждения закрытого типа), приютское воспитание, система патронажа в виде воспитания сирот и незаконнорожденных детей в крестьянских семьях под наблюдением Правления воспитательных домов и земских учреждений»29.
Несмотря на появление теоретический аналитики и на тот факт, что проект Уложения продолжал дорабатываться вплоть до 1916 г., нормы о приемышах так и не обрели должной дифференциации и завершенности. Но смысловая незавершенность норм проекта о приемышах все же позволяет прочитать волю исторического законодателя. Она состояла в необходимости отграничить эти нормы, ориентированные на устройство детей в семью, от иных форм защиты прав брошенных и осиротевших детей с приданием им качеств, близких к современным, которые помогают различать детей, лишенных родительского попечения, и детей, находящихся под родительским попечением. В этом смысле имеют значение не только относительно последовательно сформулированные в проекте правила о светской опеке, но и манифестированные законодателем личные начала любых приемных отношений в виде этических, гуманных и правовых стандартов семейного воспитания «сторонних» детей: добровольность принятия сторонних детей в семью, бес- корыстие, подобие родительским отношениям, польза и благо для приемыша со стороны воспитателя30.
Этот закономерный этап становления семейной идентичности отношений, в числе которых были и отношения, похожие на современные отношения, связанные с фактическим воспитанием, проходящий в условиях сословного существования общества и экономической неустроенности большей части российского населения, – неотъемлемая часть национальной семейноправовой истории, оставившей свой сначала имущественный, затем нормативный след с вкраплением в него личных неимущественных начал. Его учет в последующих исторических экскурсах – одно из теоретико-методологических оснований исследования современной теоретической конструкции фактического воспитания, которая должна иметь собственные подходы, границы и методы исследования.
Послереволюционная отмена сословного разграничения общества с одновременным прерыванием традиций исследования норм обычного права и его влияния на развитие права государственного привели к теоретическому разрыву в исследовании тематики детства в его тесной связи с практиками семейного воспитания. Это привело к тому, что «традиции, заложенные в человеческих душах, включая их представления о частной жизни»31, были изъяты из семейно-правовой теории в первые десятилетия следующего исторического периода. А применительно к отношениям, связанным с фактическим воспитанием, они в виде необходимости учета его межличностных связей в рамках семейных уз в полной мере не вернулись до сих пор.
В заключение отметим, что для современных исследований темы фактического воспитания весьма значимым методологическим пунктом является то, что вся социальная и правовая история этого явления – это история отделения данного вида семейного содержания, а позднее и воспитания от других форм социального и семейного вспомоществования детству. Недооценка этого факта или его забвение – источник далеко не разовых современных доктринальных заблуждений, следствием которых становится смешение теоретической конструкции фактического воспитания как естественного сегмента семейного воспитания ребенка с конструкциями, ориентированными на учрежденческие формы воспитания ребенка (опека и попечительство, замещающее родительство, иные учрежденческие формы заботы о детях). Менее критичным заблуждением является исследование проблем фактического воспитания «в тоне и фоне» исследований, имеющих своим предметом проблемы детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Но эффект такого заблуждения не менее негативный. Оно негласно возвращает науку к историческому смешению разных форм семейной и внесемейной организации жизни детей без их надлежащей идентификации, отнимая у фактического воспитания то, что ему исторически принадлежит, – семейную среду жизни этого явления. Существуя в завершенных или незавершенных формах раньше, этот самый значимый признак из известного исторического прошлого фактического воспитания постоянно присутствует в содержании этого социального и полуюридического явления сегодня, требуя признания в текущем семейно-правовом дискурсе. Но именно этого ему и недостает и, как показывает дискурс, недостает слишком явно.
Не без сожаления следует отметить, что эти заблуждения отнюдь не единственные в теории фактического воспитания. На правильную расстановку акцентов в этой теме оказывают свое влияние также не в полной мере освоенные правовой теорией иные феноменологические сущности этой конструкции, проявившиеся именно в исследуемом историческом периоде. Многие из них сегодня затушеваны, иные не актуализированы. Отсюда возникает искажение теоретической картины фактического воспитания ребенка, где отнюдь не на последнем месте оказываются популизм, неблагополучие, подозрения о ненадежности такого воспитания ребенка и, как следствие, полное социальное недоверие к нему.
Список литературы Правовая институционализация отношений семейных воспитателей и воспитанников в XIХ в
- Бессмертный Ю. В. Проблема // Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала нового времени / под ред. Ю. В. Бессмертного. М.: [б.и.], 2000.
- Боровиковский А. Отчет судьи: в 3 т. Т. 1-3. V. Суд и семья. СПб.: типография А. С. Суворина, 1892;
- Боровиковский А. Спор между бабкой и матерью (за вторым мужем) о воспитании ребенка. СПб.: типография А. С. Суворина, 1891-1894.
- Веременко В. А. Дети в дворянских семьях России (вторая половина XIX - начало XX в.): монография. СПб.: [б.и.], 2015.
- Голубцов В. Г., Кузнецова О. А. Цель цивилистического диссертационного исследования // Методологические проблемы цивилистических исследований: сб. науч. статей / отв. ред. А. В. Габов, В. Г. Голубцов, О. А. Кузнецова. М.: Статут, 2016.
- Дашкевич П. Гражданский обычай приймачества у крестьян Киевской губернии // Юридический вестник. 1887. Кн. 8.
- Заволжская Ю. Воспитание бедных, заброшенных и одиноких детей в чужих семьях // Трудовая помощь. 1909. № 4. Апрель.
- Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего сената и комментариями русских юристов / сост. И. М. Тютрюмов. М.: Статут, 2004 (классика российской цивилистики). Кн. 1.
- История социальной педагогики: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. М. А. Галагузовой. М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2001.
- Каптерев П. Ф. Задачи и основы семейного воспитания. СПб.: [б.и.], 1898. Вып. 1.
- Короткова Л. П. Правовой статус фактических воспитателей // Правоведение. 1983. № 3.
- Никонов С. Крестьянские приемыши (необходимость более точной нормировки их отношений к усыновителям, их семьям и крестьянским обществам) // Россия. 1900. № 475.
- Пахман С. В. История кодификации гражданского права: в 2 т. СПб., 1876.
- Пахман С. В. Обычное гражданское право в России. Юридические очерки. Т. 1. Собственность, обязательства и средства судебного охранения. 1877 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-тантПлюс».
- Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Ч. 2: Права семейные, наследственные и завещательные / науч. ред. В. С. Ем. М.: Статут, 2003.
- Поворинский А. Ф. Систематический указатель русской литературы по гражданскому праву, 1758-1904 гг. / науч. ред. О. Ю. Шилохвост; 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2001.
- Приемыши (об отношении их к своим воспитателям, по проекту Гражданского уложения) // Судебная газета. 1903. № 12.
- Ружицкая И. В. Кодификационные проекты императора Александра I как составная часть его политических реформ // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2012. № 1.
- Тараборин Р. С. Систематизация гражданского законодательства Российской империи, первая половина XIX в.: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. [б.м.], 2002.
- Ширвинд М. Пандектистика: портрет на фоне мифа // Вестник гражданского права. 2018. № 1. Т. 18.
- Шматков К. Узаконение и усыновление детей. СПб.: [б.и.], 1894.