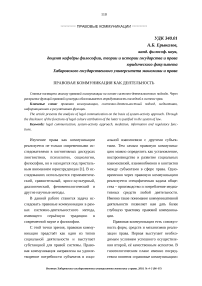Правовая коммуникация как деятельность
Автор: Ерыкалов А.Б.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Правовые коммуникации
Статья в выпуске: 4-5, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу правовой коммуникации на основе системно-деятельностного подхода. Через раскрытие функций правовой культуры обосновывается атрибутивность последней в системе прав.
Правовая коммуникация, системно-деятельностный подход, медиативая, информационная и регулятивная функции
Короткий адрес: https://sciup.org/143167002
IDR: 143167002
Текст научной статьи Правовая коммуникация как деятельность
Изучение права как коммуникации реализуется не только современными исследователями в когнитивных дискурсах лингвистики, психологии, социологии, философии, но и находится под пристальным вниманием юриспруденции [1]. В исследованиях используются герменевтический, сравнительный, кросс-культурный, диалогический, феноменологический и другие научные методы.
В данной работе ставится задача исследовать правовые коммуникации в рамках системно-деятельностного метода, имеющего серьёзную традицию в современной науке и философии.
С этой точки зрения, правовая коммуникация предстаёт как один из типов социальной деятельности и выступает субстанцией для правой системы. Правовая коммуникация направлена на удовлетворение потребности субъектов в соци- альной взаимосвязи с другими субъектами. Тем самым правовую коммуникацию можно определить как установление, воспроизводство и развитие социальных взаимосвязей, взаимообменов и контактов между субъектами в сфере права. Одновременно через правовую коммуникацию реализуется специфическая задача общества – производство и потребление медиативных средств любой деятельности. Именно такое понимание коммуникативной деятельности позволяет нам дать более глубокую трактовку правовой коммуникации.
Правовая коммуникация есть совокупность форм, средств и механизмов реализации права. Первая выступает необходимым условием успешного осуществления второй, её качественным аспектом. В гносеологическом плане именно посредством понятия «правовые коммуникации»
право раскрывается во всём своём содержательном богатстве. В структуру исследуемого типа социальной деятельности входят коммуникативные институты, нормы, ценностная иерархия, коммуникативные практики и средства, социальные роли и статусы посредников, коммуникантов, реципиентов, экспертов. Обеспечивая взаимосвязь социальных субъектов в синхронном и в диахронном аспектах, правовая коммуникация реализуется как способ организации права. Определив, таким образом, правовую коммуникацию, перейдем к выделению её основных функций.
Функциональная характеристика является необходимой в изучении правовой коммуникации, поскольку без этого невозможно полноценно раскрыть её значение в социальной системе и понять его. Такая заданность исследования опирается на существующую традицию изучения коммуникаций как деятельности [2, 3, 4]. Вычленение и раскрытие содержания функций даёт возможность более конкретной и многоаспектной оценки коммуникативно-правовых феноменов и права в целом. Системность правовой коммуникации обусловливает системность её функций. А.Р. Рэдклифф-Браун отмечает: «Процесс, структура и функция составляют единую теорию, то есть схему интерпретации, применимую к социальной системе» [4, с. 20]. Вопрос о системности и классификации функций правовой коммуникации представлен несколькими подходами в науке и философии.
С нашей точки зрения, полагание потребностей в качестве структурообразующего принципа является достаточно обоснованным, поскольку каждая из функций правовой коммуникации направлена на реализацию, удовлетворение какой-либо потребности общества и личности. С позиции применяемого нами подхода основными, исходными для правовой коммуникации являются медиативная, информационная и регулятивная функции. Их развитие и взаимодействие порождают все другие функции, соответствующие определённым личным и общественным потребностям, которые при всех условиях должны удовлетворяться.
Медиативная функция, обеспечивая опосредование между субъектами, обусловлена социальностью человека, который не может существовать вне коммуникации с другими людьми. Только с помощью коммуникативной деятельности происходит прогрессирующее развитие духовных, творческих способностей личности. Своё выражение медиативная функция находит в сформировавшихся и разделяемых членами данного общества нормах, эталонах, стереотипах, а также институтах и практиках коммуницирова-ния. Совокупность норм и социальных стандартов образует культурно-историческую среду, задающую способы формирования личных, групповых и массовых взаимодействий в правовой системе. Мера овладения способами коммуницирования служит одним из важнейших индикаторов уровня развития общей культуры человека. Осуществление данной функции связано с прогрессом коммуникативной техники, который состоит в возрастании её мощности, скорости и дальнодействия. Думается, это непосредственно ведёт к дальнейшей глобализации социальных коммуникаций, в которые постепенно и по нарастающей втягивается всё население мира. Это означает увеличение плотности и разнообразия контактов, роста осознания значимости коммуникативной сферы, изменения требований к компетентности юриста как особого коммуниканта – профессионала-посредника и эксперта. Модификациями медиативной функции являются две вторичные по отношению к ней подфункции – интегративная и дифференцирующая. Ещё Э.-Дюркгейм указывал на взаимопредпо-лагаемость процессов интеграции и дифференциации. Всякая дифференциация есть одновременно и установление границы, что предполагает «совершенное примыкание» [6], объединение, сплочение людей. Чем сильнее сплочение, тем сильнее разделение с другими группами и обществами, интеграция в одном отношении связана с ослаблением сплоченности и даже дезинтеграцией в другом, в основании чего лежит механизм образования социально-психологической оппозиции Они и Мы [7, с. 458–459]. Качество правовой коммуникации будет раскрываться при этом в шкалах Открытости–Закрытости, Совпадения–Отторжения. Достижение одной из этих крайностей ведёт к уничтожению коммуникации и правой системы, что означает деградацию общества в целом. Следовательно, интегративная и дифференцирующая функции взаимообусловлены в рамках медиативной [8; 9].
Интегративная функция правовой коммуникации служит цели сплочения социальных субъектов, достижения единства и взаимосвязи между членами общества. В ходе её реализации обеспе- чивается формирование новых общностей, укрепление прежде сложившихся форм социальных объединений. В основе реализации интегративной функции лежит потребность в сообществе себе подобных, более конкретно, объективное тождество целей осуществляющих коммуникацию субъектов. При этом данные цели могут иметь внекоммуникатив-ную направленность. Следовательно, индивиды общаются не только ради удовольствия, получаемого непосредственно от коммуникации. Сущность коммуникации такова, что в ней реализуется сложный комплекс потребностей, связанных с существованием общества и социальных субъектов. В условиях современного общества индивид не всегда может в полной мере реализовать интегративную функцию, так как связи в сегодняшней социальной реальности носят всё более опосредованный характер. Стремление к различным коммуникативным формам и практикам, ведущим к интеграции, тесным образом связано с тем основанием, по которому социальные субъекты стремятся идентифицировать себя с окружающими. Какие цели, стороны, аспекты собственной идентичности представляются на данный момент наиболее значимыми? Что отличает «своих» от «чужих», кого считать «своими»? Так интегративная функция переходит в дифференцирующую, ибо осуществление объединения и сплочения в одном отношении связано с ослаблением в другом и / или ведёт к проведению границы, отторжению. Каждая из сторон коммуникации определена через отсылку к другой [6, с. 205], всякое социально-культурное обозначение и определение утверждает различение. Внимание к этой функции правовой коммуникации обостряется в связи с современными процессами отчуждения. «Традиционные» или «естественные» единства, социальные формы, человеческие отношения, культурные феномены и даже религиозные системы систематически – по утверждению Ф. Джеймисона – разбиваются на части для того, чтобы быть снова собранными более эффективным образом в форме постъестественных процессов или механизмов» [10, p. 63]. Образовавшиеся изолированные фрагменты социальной жизни обретают автономию, как вещи, существующие сами по себе. Это относится и к вырванному из различного рода органических форм коллективности, изолированному в самозамкнутости индивиду. Объединению, как и разъединению, могут способствовать знание / незнание определённого языка, умение кодировать и декодировать сообщения, навыки пользования тем или иным средством. Теснейшая связь существует между медиативной и информационной функциями правовой коммуникации. В систему правой коммуникации входят информационный обмен, информационное взаимодействие субъектов. Само потребление информации происходит через осуществление коммуникации. Человек способен обмениваться с другим человеком мыслями и чувствами, только лишь облекая их в форму знаков, звуков, письменного текста, то есть используя коммуникативные каналы и средства. Сущность информационной функции заключается в создании знаковой «копии» действительности, отоб- ражении целостной, осмысленной и общезначимой картины мира посредством той или иной знаковой системы, важнейшей из которых является язык [11, с. 68–69]. В системе права она реализуется через профессиональный язык юристов, категориальный аппарат юридической науки, документооборот между участниками правовой коммуникации.
Вместе с тем она выступает необходимым условием передачи и приёма информации в синхронном и диахронном взаимодействии субъектов. В последнем случае она обеспечивает эффективность социальной памяти. В целом правовая коммуникация способствует оптимизации всего коммуникативно-правового процесса и получению информации более высокого качества. Модификациями информационной функции являются вторичные по отношению к ней функция обеспечения доступности информации и селективная функция. Первая из этих функций обеспечивает прозрачность информационных потоков, доступность для пользователей получения информации, преодоление и снятие коммуникативных барьеров, уменьшение различного рода затрат. Вместе с этим обеспечивается полноценность и достоверность получаемой информации.
Селективная подфункция обеспечивает отбор информации при осуществлении правовой деятельности. Сегодня в развитых странах обсуждается закон, призванный регулировать информационные массивы Интернета, чтобы ограничить детей от опасных для них контактов через данный коммуникативный канал. Правовая коммуникация с помощью института цензуры, правовой культуры, запретов и норм не только ограничивает и минимизирует получение информации, но и позволяет производить её отбор, осуществляемый на основе принципа релевантности, согласно которому не вся информация, циркулирующая в каналах социальных коммуникаций, нужна реципиенту, а только та, в которой существует потребность. Остальной массив информации выступает в таком случае шумом, помехами, если речь идёт о навязываемом агрессивном контакте. Анализ информационной функции показал, как важна степень организованности правовой системы, без чего социальный субъект вполне может растеряться во всё возрастающем потоке разнообразной информации. Это подводит нас к необходимости анализа регулятивной функции правой коммуникации.
Если медиативная и информационная функции исходят из определённого совпадения индивидов в рамках конкретной общности, то в регулятивной функции отражаются различия коммуникантов, которые необходимо учитывать при установлении связи и достижении социальной стабильности. Регулятивная функция коммуникативной культуры нацелена на обеспечение согласованного с интересами общества или группы поведения индивида.
Обнаруженное в кибернетике неразрывное единство коммуникации, информации и управления обусловливает фундаментальность регулятивной функции правовой коммуникации, придаёт ей статус основной [12, с. 242–244.]. Любая социальная система нуждается в регулировании поведения и деятельности субъектов, поддерживании равновесия с окружающей средой, координации усилий индивидов. На основе правовой коммуникации осуществляется формирование сложной системы норм, правил, традиций, ритуалов и институтов, призванных регулировать социальные отношения. В определённой степени регулятивную функцию выполняют ценности, которыми обладает субъект, поскольку они очерчивают «поле» его деятельности. Но ценности не указывают на те средства, с помощью которых субъект может достичь цели. Именно нормы и правила, а также технический уровень коммуникативных средств определяют выбор субъектом средств и «рамки», в которых он может действовать, и уровень эффективности его коммуникации. В аспекте регулятивной функции социальные субъекты осуществляют поиск и разработку новых, укрепление и развитие прежних коммуникаций, коммуникативных практик, умений и навыков, а затем используют их для устранения или нейтрализации негативных последствий действия «возмущающих» факторов. Это, в свою очередь, выдвигает требование освоения каждым членом общества нормативно-регулятивного аспекта правовой коммуникации. На уровне индивида регуляция осуществляется в форме самоконтроля, самооценки и самоограничения, ведёт к повышению организованности и качественности правовой деятельности индивида.
Правовая коммуникация предоставляет возможные цели правовой деятельности субъекта, а также средства для создания программы, которая охватывает все этапы движения от наличной ситуации к целевой. Основным средством для созда- ния программы является язык как базисная система правил и норм, как способ конструировать мир таким, каким мы хотим его видеть, создавая сеть значения. Цель и программа тем самым выступают звеньями в процессе регуляции. Результатами данного коммуникативного процесса могут быть изменения установок реципиента, формирование новых ценностных ориентаций у реципиента, явные изменения его поведения, изменения в качестве взаимопонимания участников, измеряемые степенью совпадения передаваемого коммуникантом и понимаемого реципиентом.
Формирование и изменение установок коммуникантов связаны с такими явлениями, как поощрение и наказание, заражение и подражание, идентификация и суггестия, иррадиация чувств и выполнение социальных ролей. Механизмы поощрения и наказания при формировании и изменении установок работают как оценивающие, как стимулирующие социально приемлемые действия индивида, и порицающие – в отношении неприемлемых. Это ярко видно на примере современной правой коммуникации, когда наказание путём лишения или ограничения возможности общения считается весьма жестоким и сильным по отношению к провинившемуся [13, с. 14; 14, с. 239– 252].
Как и другие основные функции, регулятивная функция реализуется через вторичные – дисциплинирующую и адаптив- ную. И та и другая обеспечивают качественность протекания правовой деятельности, но реализуют это специфически. В первой, ориентирующейся на прошлое, происходит воспроизводство традиционных правовых практик и институтов. Дисциплинирующая функция призвана сохранять преемственность, стабилизировать формы правовой деятельности. В этой ситуации коммуникативные практики тяготеют к ритуалу, ориентируются на прошлое. Регулятивная функция правовой коммуникации не сводится только к охранительной задаче, другую её сторону раскрывает адаптивная подфункция. Последняя решает задачу корректировки существующих норм, ценностных ориентаций, практик, используемых в правовой деятельности в соответствии с меняющейся общественной ситуацией. Это касается и изменения правовой коммуникации на уровне индивида, развития и появления новых коммуникативных технологий, в свою очередь требующих регулирования для гармоничного освоения открывающейся возможности. Прекрасным примером адаптивной подфункции выступают появившиеся у нас в стране правила и законы, принятые в отношении новых средств коммуникации, изменения в правовой культуре [15, с. 12–16].
Проведённый в данной работе анализ позволяет утверждать, что растущий интерес со стороны исследователей к сфере правовых коммуникаций неслучаен, а обусловлен необходимостью решения целого ряда острых проблем, связанных с функционированием и развитием правовой системы в современных социальных системах. Правовая коммуникация как качественная характеристика правовой деятельности является неотъемлемым атрибутивным элементом права, что было обосновано в данном исследовании на основе использования системнодеятельностного метода.
Список литературы Правовая коммуникация как деятельность
- Поляков А. В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода/А. В. Поляков. СПб.: СПб. гос. ун-т, 2004. 864 с.
- Каган М. С. Мир общения: проблема межсубъектных отношений/М. С. Каган. М.: Политиздат, 1988. 319 с.
- Гладышев В. И. Компенсаторное общение: социально-философский анализ/В. И. Гладышев. Екатеринбург, Банк культурной информации, 1999. 292 с.
- Родионов Б. А. Коммуникация как социальное явление/Б. А. Родионов. Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1984. 144 с.
- Рэдклифф-Браун А. Р. Структура и функция в примитивном обществе: очерки и лекции/А. Р. Рэдклифф-Браун; пер. с англ. М.: Восточная лит., 2001. 304 с.
- Луман Н. Теория общества/Н. Луман//Теория общества: сборник/под общ. ред. А. Ф. Филиппова. М.: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 1999. 416 с.
- Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. -2-е изд., доп. и испр./Б. Ф. Поршнев. М: Наука, 1979. 235 с.
- Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального/Ж. Бодрийар. Екатеринбург: УрГУ, 2000. 32 с.
- Бауман З. Индивидуализированное общество/З. Бауман. М.: Логос, 2002. 390 с.
- Jameson, F. The political unconscious: narrative as a socially symbolic act. Ithaca. N.Y.: Cornell University Press, 1981. Р.63.
- Соколов Э. В. Понятие сущность и основные функции культуры/Э. В. Соколов. Ленинград: ЛГИК, 1989. 83 с.
- Винер Н. Л. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. -2-е изд./Н. Л. Винер. М.: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. 344 с. C. 242-244.
- Емчура Т. Коммуникативный механизм социальной регуляции: автореф. дис.. канд. социолог. наук/Т. Емчура. Белгород, 2000. 21 с.
- Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти, сексуальности/М.Фуко. М.: Касталь, 1996. 448 с.
- Усманова Е. Ф. Роль правовой коммуникации в формировании и развитии правовой культуры общества/Е. Ф. Усманова//Мир науки и образования. 2015. № 4. С. 12-16.