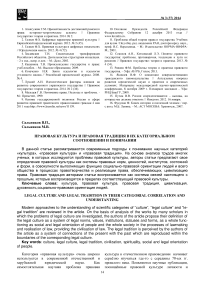Правовая культура и правовая традиция в их категориальном соотношении и понимании
Автор: Сальников В.П., Сальников М.В.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 3 (37), 2014 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются современные подходы к пониманию научных категорий «культура», «правовая культура» и «правовая традиция». На основе анализа трудов многих ученых, в которых исследуются проблемы правовой культуры, авторы статьи предлагают свое определение правовой культуры каксистемы правовых норм, ценностей, институтов, состояний и форм, в совокупности выполняющих функцию социально-правовой ориентации людей и всего общества в процессах правотворчества и реализации права, обеспечивающих,цивилизацию права. Правовая традиция авторами статьи воспринимается как система связей настоящего с прошлым, которые воспроизводятся в пределах соответствующей правовой культуры.
Культура, правовая культура, правовая традиция, цивилизация, духовность, социально-правовая ориентация людей
Короткий адрес: https://sciup.org/142233667
IDR: 142233667
Текст научной статьи Правовая культура и правовая традиция в их категориальном соотношении и понимании
Категория «правовая культура» очень широко используется в современной отечественной и зарубежной юридической науке. Как самостоятельная научная проблема правовая культура в отечественном правоведении начинает серьёзно изучаться где-то с середины 70-ых гг. прошлого века. Появляются научные публикации, посвящённые правовой культуре личности и
правовой культуре общества, выявляется содержание, структура, уровни, формы этих явлений, определяется категориальный аппарат. С этого времени исследования начинают носить предметный характер. Правовая культура как явление и как категория выступает уже предметом отдельного, самостоятельного изучения. Эти исследования, с одной стороны, начинают охватывать феномен в целом, а с другой – освещать самые разные его проявления, в том числе затрагивать многочисленные отдельные аспекты связанной с ним проблематики. Появляются диссертационные работы, предпринимаются попытки обосновать существование такого научного направления как правовая культурология и культурология права.
Что же касается категории «правовая традиция», то здесь дело обстоит несколько иначе. При исследовании вопросов правового традиционализма, авторы очень часто обращаются к категории «правовая культура». Обидно, что при этом сами категории чётко не разводятся, и применяются в качестве синонимов. Просто авторы не хотят утруждать себя определением категориального статуса анализируемых общественных явлений. Приведём хотя бы один пример: А.Г. Москвина пишет: «Сегодня мы можем сказать, что российская юриспруденция развивалась и развивается в настоящее время в русле западноевропейской правовой традиции: использует общеевропейский понятийный аппарат, оперирует общеевропейскими правовыми теориями и идеями, находится в европейском правовом поле. Присущее российскому правоведению особенности есть результат исторической уникальности всей совокупности культурного наследия и современной культуры России как особой цивилизации» [20, с. 17]. Если внимательно вдуматься в приведенную позицию исследователя, то начинаешь понимать, что в ней не совсем точно представлено соотношение анализируемых нами в настоящей статье категорий теоретического правоведения «правовая культура» и «правовая традиция». Такое же замечание можно сделать и по поводу интерпретации категории «цивилизация».
Полнота исследования анализируемых в настоящей статье категорий, предполагает их сравнительный анализ. Кроме того, проведение такого сравнительного анализа невозможно без тщательного изучения феномена правовой культуры. В предыдущих своих публикациях мы подчёркивали многообразие интерпретации исходной категории «культура». В философской литературе безусловно, данное обстоятельство сказывается и на понимании правовой культуры.
Как известно, термин «культура» является производным от латинского слова сultura, которое использовали для пояснения процесса культивации растений, выведения домашних животных или птицы. С начала ХVI в. и до конца ХVIII в.
смысловая нагрузка термина «культура» меняется, хотя и не получает широкого распространения. Под культурой начинают понимать процесс культивации уже не растений, животных и птиц, а область рационального воздействия на процесс культивации ума. А с конца ХVIII-начала ХIX в., по мнению С.В. Лурье, и с ним надо согласиться, выражение культура очень часто употребляется как синоним термина «цивилизация» (от латинского civilis–гражданин), что в конце ХVIII в. в английском и французском языках значило поступательный процесс человеческого развития, движение от варварства к гражданственности, к государственно-правовой организации общества [12, с. 138]. Иная картина в этот исторический период наблюдается в Германии. Здесь выражения «цивилизация» получает негативную окраску, а «культура» - позитивную. Термин «цивилизация» интерпретируется как притворная, искусственная вежливость, завуалирование личностных, нередко отрицательных особенностей личности. В то время выражение «культура» предполагало результат интеллектуальной, творческой художественной или духовной деятельности. В этой деятельности отражалась и виделась творческая сила человека. Несколько позже в Германии формируется «классическая концепция» культуры, которая как бы обеспечивает примирение, выступая наложением двух указанных ранее пониманий анализируемого феномена. Смысл новой концепции сводился к представлению культуры в качестве особого процесса развития и облагораживания человеческих способностей, процесса, обеспечивающего восприятие произведений литературы, науки и искусства. Данный процесс связывался с прогрессивным характером современной эпохи [12]. Следовательно, термин «цивилизация» в немецкой исторической науке постепенно набирает позитивное начало и рассматривается уже в качестве прогрессивной эволюции общества. В обыденной речи и сегодня, именно в этом значении, чаще всего употребляется термин «культура». Однако такой подход трудно назвать научным. Анализ историко-этимологического толкования понятия «культура», заставляет всё больше отходить от обыденного представления.
Наблюдается несколько иной подход к различению понятий «культура» и «цивилизация» в нашей отечественной литературе. Очень интересную позицию по данному вопросу

сформулировал известный русский философ Иван Ильин [9]. В данной статье мы не планируем подробно останавливаться на мнении И.А. Ильина, это предмет самостоятельной статьи, отметим лишь, что именно этот мыслитель, по нашему мнению, наиболее полно и точно отразил соотношение феноменов «культура» и «цивилизация» [9, с. 590].
Российская наука пошла по пути рассмотрения культуры как явления, духовно определяемого в основном сознанием, внутренним восприятием реальности. А цивилизация стала пониматься как внешнее материальное проявление культуры. Обратимся к современной российской науке. Здесь можно выделить два главных подхода к пониманию феномена «культура» - ценностный и деятельностный. Ценностный подход предполагает понимание культуры как совокупности «материальных и духовных ценностей, созданных человеком» [11, с. 12]. Деятельностный подход, включает два основных направления. Одно представляет культуру в контексте персонального становления человека, второе рассматривает её в качестве универсального свойства общественной жизни. В условиях деятельностного подхода, культура представляется как способ деятельности. Это уже не биологические процессы культивации растений, выведения домашних животных или птицы, а система внебиологически выработанных механизмов, с помощью которых стимулируются, программируются и реализуются потенциальные возможности человека в общественной среде.
Родоначальником приведённой идеи является Э.С. Маркарян [13,19,15,18,17,16]. Эта его мысль очень быстро стала популярной среди отечественных философов и культурологов [11]. Мыслитель сформулировал концепцию, в соответствии с которой появилась возможность относить те или иные явления к классу культурных в отличии от социальных. По его мнению, «общая характеристика класса культурных явлений должна быть функциональной и последовательно спроецированной на процессе осуществления человеческой деятельности. … При подобном подходе общая характеристика культуры естественным образом будет учитывать способность людей оперировать символами, но не сводиться к ней. … Класс культурных явлений – не что иное, как сложнейшая удивительно многоликая, специфически характерная для людей система средств, благодаря которой осуществляется их коллективная и индивидуальная деятельность» [18, с. 25-26]. По мнению Э.С. Маркаряна, «понимание культуры как специфического способа человеческой деятельности, способа существования людей, имеющего конечную адаптивную и когэнтропийную природу, может послужить началом для методологически эффективного решения проблемы установления как общего предмета теории культуры, так и истории культуры. Термин «способ деятельности» понимается в широком значении, несводимом лишь к навыкам, умению, а предполагающем также и охват многообразных объективных средств осуществления активности людей… Изучение истории общества сквозь призму понятия «способ деятельности» позволяет обстрагировать вполне определённый культурный срез, элементами которого выступает комплекс внебиологически выработанных средств, благодаря которым действия людей особым образом стимулируются, программируются, воспроизводятся. К ним относятся социогенные потребности, знания, орудия труда, юридические установления, одежда, пища, жилища и множество других явлений. Все они системно объединяются в единый структурный ряд благодаря тому, что выполняют общую функцию средств осуществления соответствующих звеньев человеческой деятельности… Этнические культуры представляют собой исторически выработанные способы деятельности, благодаря которым обеспечивалась и обеспечивается адаптация различных народов к условиям окружающей их природной и социальной среды» [15, c. 8-9]. Изучение истории общества сквозь призму понятия «способ деятельности» позволяет обстрагировать вполне определённый культурный срез, элементами которого выступает комплекс внебиологически выработанных средств, благодаря которым действия людей стимулируются, программируются, воспроизводятся. К ним относятся социогенные потребности, знания, орудия труда, юридические установления, одежда, пища, жилища и множество других явлений. Все они системно объединяются в единый структурный ряд благодаря тому, что выполняют общую функцию средств осуществления соответствующих звеньев человеческой деятельности… Этнические культуры представляют собой исторически выработанные способы деятельности, благодаря которым обеспечивалась и обеспечивается адаптация различных народов к условиям окружающей их природной и социальной среды» [15, с. 8-9].
По Э.С. Маркаряну, «ключевой категорией, позволяющей выразить специфику осуществления адаптивной деятельности людей, является понятие «культура»… Адаптивная функция культуры непосредственно, логически выводится из самого определения культура как способа человеческой деятельности, ибо сам феномен деятельности (в том числе и человеческой) имеет исходную адаптивную ориентацию» [17, с. 135]. Возможно,
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика на рассмотренную выше идею Э.С. Маркаряна оказало влияние творчество русского философа и политического мыслителя Ивана Ильина.
Иван Александрович Ильин (1882-1954) в нашей стране был мало известен. Признательность он получил на исходе ХХ в., после кардинального изменения хода исторического развития России, когда в страну стало возвращаться запрещённое ранее культурное наследие. Из России в 1922 г. была удалена «идейно опасная» группа – лучшие представители научной, технической и творческой интеллигенции. К концу лета в Германию против воли были высланы свыше 200 человек – в основном университетская профессура. Среди учёных были известные мыслители: И.А. Ильин, П.А. Сорокин, С.Л. Франк, Н.О. Лосский, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев. Корабль, на котором они отбыли на чужбину, вошёл в историю под именем «Философский пароход». В период нацизма в Германии И.А. Ильин переехал в Швейцарию, где и прожил последние 16 лет. На чужбине им были написаны многие философские произведения, пополнившие богатства русской культуры. У нас много поводов для гордости за нашу национальную культуру, наши духовные ценности, существенный вклад в которые наряду с Рублёвым, Пушкиным и Чайковским внёс и Иван Ильин. Приведём несколько положений И.А. Ильина, хотя бы из работы «Путь к очевидности», свидетельствующих о его понимании феномена «культура» в деятельностном контексте.
В предисловии к этой работе, озаглавленном «О новом человеке», философ пишет: «Особенно важно понять и объяснить людям сущность творческой жизни. Это величайшая задача для поколений, идущих нам на смену. Строение творческого акта, созидающего культуру, (подчёркнуто нами. В.С. и М.С.), должно быть постигнуто до глубины и обновлено из самой глубины, и притом - во всех областях, и духовных призваниях» [9, с. 346].
В приведённом абзаце каждое слово несёт в себе большое содержание, будоражит мысль и приглашает к творчеству. Но мы обратим внимание лишь на выделенное нами выражение: «строение творческого акта, созидающего культуру». Разве это выражение не заставляет задуматься и прийти к выводу о том, что без творческой, созидательной деятельности человека, культура невозможна. Именно в результате такой деятельности и создаётся культура. Деятельность человека и культура неразрывны. В части первой указанного сочинения, названной И.А. Ильиным
«Бессердечная культура. Из переписки двух учёных», читаем: «Чем дальше идёт развитие культуры, тем напряжённее, тем интенсивнее она

становится. Культура есть вообще воплощение интенсивности: «многое собирается и сосредоточивается (аккумуляция), а затем действует в формах концентраций (интенсивность). Это составляет саму сущность культуры, … кто хочет творить культуру, тот должен собрать свои силы, научиться концентрации, вниманию, единению; он должен всё взвешивать, вкладывать в дело все свои силы и стойко держаться до конца. Без этого никакая культура невозможна» [9, с. 347].
С нашей точки зрения, приведённая позиция И.А. Ильина свидетельствует о понимании им культуры как деятельностном явлении. Без деятельного начала, без напряжённости и интенсивности, без воплощения интенсивности, без творчества, концентрации и единения сил, что составляет по И.А. Ильину сущность культуры, она невозможна. Было бы несправедливо, если мы, размышляя по поводу позиции И.А. Ильина, ограничились бы сказанным, не подчеркнув ещё одно обстоятельство. Русский философ не видел культуру без духовности и человеческой сердечности. Он постоянно подчёркивал, что «культура без сердца есть не культура, а дурная «цивилизация», создающая гибельную технику и унизительную, мучительную жизнь» [15, с. 353]. Своё исследование «Путь к очевидности» он завершает словами: «Человеческая культура может быть обновлена только живым, излучающим сердцем, ибо только в нём зарождаются новые творческие идеи, только ему даётся очевидность» [9].
Следовательно, культура при всём её многообразии проявлений нуждается всё-таки в сердечном её начале. Без сердца и души нельзя вести речь об истинной и подлинной культуре. Культура – сложный социальный феномен. Он пронизывает различные области человеческих отношений. В зависимости от сфер человеческой жизнедеятельности выделяются самые различные её проявления. Говорят о политической, научной, производственной, профессиональной культуре. Пишут даже о военной культуре, а войну рассматривают как явление культуры [24]. С последним предложением можно было бы поспорить, хотя это предмет иных размышлений. Заметим лишь – когда рассматриваем войну (хотя бы ту которая сегодня ведётся в Украине, когда погибают сотни и сотни мирных, ни в чём не повинных, жителей – женщин, детей, стариков, подростков и т.д.), как явление культуры, то конечно ни о каком сердце, ни о какой душе уже речи нет. Культура невозможна без духовности. Хотя, конечно это разные категории, и их, безусловно, необходимо различать, как это, например, делается в отношении духовности и
правосознания [21, с. 161-169]. Правовая культура выделяется наряду с перечисленными выше разновидностями культуры. В самом общем приближении её можно рассматривать как правовую реальность во всех её проявлениях. Это часть социальной культуры, сформировавшейся в обществе на данном этапе его развития. Она отражает состояние правовой жизни общества и включает такие её содержательные элементы, как: правовые ценности, действующее законодательство, общественное правосознание, правомерное поведение, существующую правовую систему.
На базе этой общей посылки к пониманию феномена правовой культуры и строятся различные концептуальные подходы к его анализу. Исследователи изучают правовую культуру в философском плане, в социологическом и формально-догматическом аспектах. Предпринимались попытки систематизировать самые разные подходы к определению правовой культуры. С определённой долей условности их можно представить как онтологическое понимание, иногда в научной литературе оно называется антропологическим, и как аксиологическое понимание. У нас нет возможности в данной статье подробно останавливаться на этих двух позициях, тем более ранее мы и об онтологическом, и об аксиологическом подходах уже писали. Заметим лишь, что современные отечественные исследователи активно опираются на оба эти понимания правовой культуры, хотя интерпретируют их весьма неоднозначно.
В качестве наиболее высокой формы правосознания понимал правовую культуру А.Б. Венгеров. По его мнению, правосознание охватывает только духовную жизнь общества и является лишь частью общественного сознания. Правовая же культура включает в себя как духовные характеристики, так и материальные: юридические учреждения, их организацию, отношения; роль права в обществе, судебной, нотариальной, арбитражной, правоохранительной и других системах [7, с. 585]. С таким подходом к пониманию правовой культуры можно согласиться. Интересен подход к характеристике правовой культуры Т.В. Синюковой. По её мнению, правовая культура – это сфера человеческой практики, представляющей собой совокупность норм, ценностей, юридических институтов, процессов и форм, выполняющих функцию социальноправовой ориентации людей в конкретном обществе (цивилизации) [22, с. 473]. К.Т. Бельский определяет правовую культуру как «результат целостного правового процесса в обществе», как «всегда нечто достигнутое, завоёванное человечеством», с чем несовместимы нарушения законности [6, с. 32].
Большое внимание изучению правовой культуры уделял С.С. Алексеев. В своих работах он сформулировал базовые подходы к анализу правовой культуры, которые послужили ориентиром для многих современных исследователей. С.С. Алексеев понимал под правовой культурой состояние правосознания, законности, совершенства законодательства и юридической практики, которое выражает утверждение и развитие права как социальной ценности. По его мнению, правовая культура – это своего рода «юридическое богатство» общества. Во всех своих заключительных работах он удачно пропагандировал этот тезис [1,2,3,4]. Коллега С.С. Алексеева по Свердловскому юридическому институту проф. А.Ф. Черданцев считал, что «под правовой культурой в широком смысле слова понимается всё, что создано человечеством в правовой сфере: право, правовая наука, правосознание, юридическая практика. Правовая культура характеризуется состоянием юридической науки, правосознания, уровнем разработки текстов законов, состоянием законности и правопорядка, уровнем профессиональной деятельности правоохранительных органов, юристов профессионалов».
В узком же смысле слова, А.Ф. Черданцев понимал правовую культуру как уровень знания права членами общества и уважительное отношение к праву, высокий престиж права в общественной жизни. В качестве антипода правовой культуры он считал правовой нигилизм как недооценка роли права в нашей общественной жизни или даже отрицательная оценка права, неуважение к праву, пренебрежительное к нему отношение, что и приводит зачастую, к правонарушениям [25].
Из приведённых выше подходов к пониманию правовой культуры нетрудно заметить, что все они базируются, на деятельностной интерпретации культуры как таковой, о чём мы говорили применительно к анализу творчества Э.С. Маркаряна.
В своё время мы предложили теоретикоправовую модель, в рамках которой правовая культура выступает как особое социальное явление, воспринимаемое как качественное правовое состояние общества и личности, подлежащие структурированию по различным основаниям. Это одна из категорий общечеловеческих ценностей, важнейший результат общедемократических завоеваний прогрессивного человечества. Правовая культура – неотъемлемый компонент цивилизованности и правового государства. Это то, что В.Д. Зорькин
назвал «цивилизацией права» [8]. Это такое состояние и положение дел в обществе, когда наблюдается «наличие общего языка, общего подхода к правилам построения отношений», когда никакому принципу нельзя подчинить право, когда право и есть высший принцип. По справедливому замечанию В.Д. Зорькина, никакое общество, в конечном счёте, не может быть синхронизировано никаким высшим принципом, кроме права. Невозможно подчинить высшему принципу не только всё человечество, но даже отдельные народы. Сама история поставила право во главу угла. На основе огромных жертв, методом кровавых проб и страшных ошибок была построена цивилизация права. Человечество выстрадало цивилизацию права в кровавых войнах и революциях ХХ в., преодолев приоритет идейных ценностей или ценностей иного порядка приоценки правовой реальности, противопоставив им верность духу цивилизации права [8]. Правовая культура зиждется на верховенстве права, его торжестве. Она предполагает способность давать оценку социальной реальности исходя их верности духу права, духу цивилизации, построенной на этом праве.
Если мы попытаемся обобщить всё выше предложенное, то можно сформулировать в самом общем приближении наше понимание правовой культуры – это система правовых норм, ценностей, институтов, состояний и форм, в совокупности выполняющих функцию социально-правовой ориентации людей и всего общества в процессах правотворчества и реализации права, обеспечивающих, в конечном счёте, цивилизацию права. Другими словами, правовая культура – это правовая реальность жизнедеятельности человека, общества, государства, стремящаяся к обеспечению цивилизации права. В идеальном, просто необходимом варианте – это цивилизация права.
Мы в данной статье не преследуем цель разграничить феномен «правовая культура» с иными явлениями правовой реальности. Существуют в литературе терминологические споры по поводу соотношения близких к правовой культуре категорий: «правовая система», «правовая надстройка», «юридическая действительность», «правовая реальность», и др. Анализ этих соотношений, вероятнее всего предмет наших других исследований. В рамках данной статьи нас интересует вопрос о том, как же соотноситься феномен правовой культуры с другим феноменом, отражаемым категорией «правовая традиция».
Предварительно обратим внимание на то обстоятельство, что общая характеристика класса культурных явлений, по Э.С. Маркаряну, должна быть функциональной и последовательно спроецированной на процессе осуществления человеческой деятельности. В свою очередь деятельность человека в рамках обособленных групп объективируется и стандартизируется, информационно и на практике передаётся от индивида к индивиду, от поколения к поколению, становясь традицией, которая определяется процессами культурогенеза.
А.Я. Флиер полагает, что «основной механизм культурогенеза на его микродинамическом уровне видится в процессах адаптации человеческих коллективов к совокупности природных и исторических условий своего существования, к результатам собственной социальной самоорганизации и развитию технологий деятельности, (выделено нами – В.С. и М.С.), а также превращении наиболее успешных и эффективных технологий этой адаптации в нормативно-ценностные установки коллективного бытия людей».
Далее А.Я. Флиер продолжает: «Макродинамика исторической изменчивости культуры, как показывает опыт её моделирования, детерминируется главным образом двумя причинами. Во-первых, так же, как и социальная микродинамика культуры, изменением природноисторических условий существования сообществ, их взаимоотношением с окружением. Во-вторых, синергетическими процессами саморазвития систем (в данном их структурно-иерархического построения, повышения уровня функциональной и технологической специализированности их структурных составляющих и многообразия взаимосвязей между ними, что, в конечном счёте, ведёт к большей функциональной универсальности этих систем и их исторической устойчивости. Главным стимулирующим фактором этой динамики… является необходимость адаптации людей (выделено нами – В.С. и М.С.) в меняющихся внешних условиях их существования (первоначально преимущественно экологических, затем во всё возрастающем масштабе – исторических), в условиях, создаваемых изменением некоторых, наиболее динамично развивающихся элементов общественного производства и социального взаимодействия, обусловливающих необходимость изменения структурной организации всей системы в целом. Таким образом, историческая макродинамика культурной изменчивости по существу сводится ко всё тем же процессам адаптации, самоорганизации, самоидентификации и коммуникации человеческих сообществ (выделено нами – В.С. и М.С.) во времени и в пространстве, что и социальная микродинамика, однако осуществляемым главным
образом посредством переструктурирования всей культурной системы в целом в направлении повышения её сложности и универсальности».
Подводя итог своим размышлениям, А.Я Флиер, подводя итог, заключает: «Таким образом, культурогенез – это не единократное происхождение культуры где-то в глубокой древности, а совокупность постоянно протекающих процессов в культурах всех времён и всех народов. Это один из типов социальной и исторической динамики существования и изменчивости культуры, заключающихся в непрерывном порождении новых культурных феноменов наряду с наследованием и трансформацией прежних» [23, сс. 17-18, 72-73, 115]. Если внимательно проанализировать А.Я. Флиера, то можно прийти к выводу, что «правовая культура» и «правовая традиция» предстают как категории, отражающие статическую и динамическую составляющую одного феномена.
Интересное заключение в этой связи сделал К.В. Чистов, который прямо говорит о том, что «термины «культура» и «традиция» в определённом теоретическом контексте синонимичны или, может быть, точнее – почти синонимичны. Термин «культура» обозначает сам феномен, а «традиция» - механизм его функционирования. Проще говоря, традиция – это сеть (система) связей настоящего с прошлым, причём при помощи этой сети совершаются определенный отбор, стереотипизация опыта и передача стереотипов, которые затем опять воспроизводятся» [26, с. 106]. Учитывая предложенное нами в данной статье определение, и помня о заключении К.В. Чистова, можно прийти к выводу о том, что правовая культура представляет собой некий результат социально-юридической деятельности, т.е. правовую реальность, выраженную в правовых нормах и иных ценностях, институтах, состояниях и формах, которые в совокупности выполняют функцию социальноправовой ориентации людей в процессах правотворчества и реализации права в интересах и целях обеспечения цивилизации права.
Что же касается правовой традиции, то это специфическая, детерминированная процессами культурогенеза система связей настоящего с прошлым, при помощи которой совершаются определённый отбор, стереотипизация юридического опыта и передача правовых стереотипов в рамках цивилизации права, которые потом вновь воспроизводятся в пределах соответствующей правовой культуры.
Правовая культура и правовая традиция неразрывно связаны между собой в контексте цивилизации права.
Список литературы Правовая культура и правовая традиция в их категориальном соотношении и понимании
- Алексеев С.С. Право: азбука, теория, философия. Опыт комплексного исследования. М.,1999.
- EDN: RMLYFF
- Алексеев С.С. Тайна права: Его понимание, назначения, социальная ценность. М., 2001.
- EDN: SIOQNP
- Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001.
- EDN: PSJCBE
- Алексеев С.С. Круг замкнулся. Повесть о праве. Философское эссе. Максимы. Екатеринбург, 2001.
- EDN: TGVVYN
- Алексеев С.С. Государство и право. М., 2007.
- EDN: QXHVBV