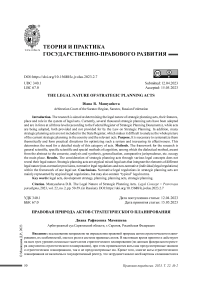Правовая природа актов стратегического планирования
Автор: Мамяшева Д.Р.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Теория и практика государственно-правового развития
Статья в выпуске: 2 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение: исследование направлено на определение правовой природы актов стратегического планирования, их особенностей, места и роли в системе правовых актов. В настоящее время принято и действуют на всех трех уровнях несколько тысяч актов стратегического планирования (по данным федерального реестра документов стратегического планирования), при этом принимаются акты как предусмотренные законом о стратегическом планировании, так и не предусмотренные им. Кроме того, многие акты стратегического планирования не включены в государственный реестр, что затрудняет анализ всей картины сложившегося в стране стратегического планирования и соответствующих актов. Цель: необходима их теоретическая систематизация и формирование практических направлений по оптимизации такой системы и повышению ее эффективности. Указанное определяет необходимость детального исследования данной категории актов. Методы: основу данного исследования составляют общенаучные, частнонаучные и специальные методы познания, среди которых основное место занимают диалектический метод, восхождение от абстрактного к конкретному, анализ и синтез, обобщение, сравнительное правоведение и др. Результаты: рассмотрение актов стратегического планирования через различные правовые концепции не раскрывает их правовой природы. Акты стратегического планирования являются нетипичными смешанными правовыми актами, интегрировано объединяющими в рамках одного правового акта элементы различной правовой природы (ненормативные положения, нормативные правовые предписания и ненормативные (индивидуальные) правовые предписания). Выводы: нормативные правовые предписания в актах стратегического планирования представлены преимущественно нетипичными правовыми предписаниями, но могут содержать и «типичные» правовые нормы.
Правовые акты, стратегия развития, планирование, акты планирования, стратегическое планирование
Короткий адрес: https://sciup.org/149143695
IDR: 149143695 | УДК: 340.1 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2023.2.7
Текст научной статьи Правовая природа актов стратегического планирования
DOI:
Акты, как и документы, могут быть либо правовыми, либо неправовыми (например, историческими, бытовыми (график дежурств на этаже дома) и пр.). Особенностью правовых актов является не только то, что они представляются результатом правомерного поведения, но и «юридически значимым содержательным элементом правовой системы», вошедшим «в правовую ткань вследствие правотворческой, властной индивидуально-правовой или автономной деятельности субъектов» [1, с. 427].
Стратегические акты могут приниматься не только государством или муниципальными образованиями (их должностными лицами), но и иными общественными институтами (политическими партиями, общественными движениями, корпорациями и др.). Но при утверждении (одобрении) документа компетентным государственным органом или органом местного самоуправления они приобретают характер правовых актов.
В самом общем виде правовые акты обладают тремя основными признаками.
Во-первых, они выражены в словесной письменной форме, имеют внешнюю объективизацию, но по этому признаку неотличимы от письменных неправовых актов. В литературе обращается внимание на существование правовых актов в устной и конклюден- тной формах, однако акты стратегического планирования в таких формах существовать не могут.
Во-вторых, они фиксируют волю, направленную на достижение юридических последствий и обладающую юридической силой. В правовых актах воля их авторов преобразуется в волеизъявление. Однако для характеристики актов именно как правовых необходима не простая констатация воли субъектов, а определение юридического содержания такого волеизъявления, которое отражает их правовую позицию.
В-третьих, правовые акты содержат «элементы правовой системы» (юридические нормы, правовые позиции, акты реализации права), «обладающие юридической энергией или воздействующие на процесс правового регулирования» [1, с. 429].
В-четвертых, правовые акты влекут правовые последствия, преследуют социально-полезные цели, регулируют общественные отношения.
Исходящий от государства документ стратегического планирования не может быть простым заявлением о намерениях и желаниях, он обладает юридической силой, а значит, защищен государственным принуждением. Следовательно, должны быть определены правовой механизм реализации таких актов, лица и структуры (институты), ответственные за работу этого механизма, формы итогов и отчетов о реализации документов.
Основное содержание
В классической теории права правовые акты делятся на две группы: нормативные (нормативные акты правотворчества и интерпретационные) и индивидуальные (акты применения права и акты реализации права). В современных исследованиях нормативные акты отграничивают от интерпретационных, однако квартет системы правовых актов остается неизменным [26].
Тем не менее еще в середине прошлого века теоретики советского права обратили внимание на наличие в правовой системе актов-директив (акты планирования), которые обладали признаками и нормативных, и индивидуальных правовых актов. С одной стороны, они не персонифицированы, касаются широкого круга участников – неопределенных лиц и требуют деятельности в определенных направлениях, действуют довольно длительно во времени и воздействуют на целую сферу общественных отношений. С другой стороны, это распорядительные плановые акты компетентных органов, они не предписывают конкретных моделей поведения, не конкретизируют прав, обязанностей и запретов, могут содержать показатели изменения социальной действительности, к которым следует стремиться.
При этом советские теоретики права, выделив множество специфических особенностей актов-директив и не сомневаясь в отнесении их именно к актам правовым, не попытались встроить их в систему правовых актов. С.С. Алексеев писал: «Нормативный акт как форма права – это именно нормативный акт, носитель юридических норм, акт, противополагаемый индивидуальным актам применения права. Здесь все ясно» [1, с. 234]. Но относительно того, к какой из этих групп следует отнести программные документы планирования, ясности не было и нет.
Доктринальные подходы к разрешению указанного вопроса различны.
Ряд ученых полагают, что акты стратегического планирования, во всяком случае некоторые из них, следует отнести к нормативно-правовым актам, поскольку они содержат нормы права [23]. Например, авторы работы о проблемах приграничного сотрудничества к основным нормативно-правовым ак- там, регламентирующим приграничное сотрудничество в РФ, наряду с федеральным законом «Об основах приграничного сотрудничества», прямо относят и Концепцию приграничного сотрудничества в Российской Федерации, и Стратегию пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года [25, с. 2165]. Бюджетные программно-целевые акты называют нормативно-правовыми актами, содержащими особые плановые нормы и признаваемыми основанием возникновения расходных обязательств [16, с. 19].
Предлагается определять их нормативными актами доктринального характера [21] или нормативно-правовыми актами стратегического характера [17]. Интересно заметить, что суды прямо называют такие документы нормативными актами и технически и юридически применяют их так же, как «классические» нормативные правовые акты [20].
В категориальный аппарат теории права предлагается ввести термин «стратегический нормативный акт», который издается в порядке правотворчества компетентным органом государственной власти и содержит нормы, касающиеся общих основ (идей), целей, задач и принципов развития какой-либо сферы правового регулирования общественных отношений, структурированных в порядке перспективного планирования [14, с. 125].
Другие, напротив, полагают, что документы стратегического планирования не содержат нормы права и не могут оцениваться как источники (формы) права, а являются политико-идеологическими источниками, «формулирующими основы правовой политики в соответствующей сфере» [18]. Такой подход снимает и дискуссию о иерархической юридической силе этих документов (поскольку последняя перестает иметь правовое значение, носит условный характер), и споры о видах актов, утверждающих (одобряющих) такие документы.
При этом не оспаривается, что программные документы, в том числе стратегического планирования, находятся в системе права, занимают в ней «особое» место, но не включены в иерархию формально-юридических источников права. Документы стратегического планирования и нормативные документы объединяются исследователями и в единый род – государственных документов [11], их называют политико-правовым феноменом, «имеющим одновременно и нормативно-правовой, и декларативно-политический характер» [13, с. 27].
В системе права не могут находиться неправовые акты, следовательно, требуется не только констатация их особого положения в системе права, но и конкретное определение их места в ней, в том числе в соотношении с нормативными и индивидуальными правовыми актами.
В научной литературе предпринята попытка построения иерархии документов стратегического планирования: доктрина – концепция – стратегия. М.А. Мушинский пишет, что «на основании доктрины может быть выработана концепция, которая, в свою очередь, должна быть реализована в стратегии. При этом в той же последовательности уменьшается уровень абстрактности и возрастает степень нормативности документов» [18, с. 499]. На соподчинение стратегий концепциям указывал также Д.С. Хижняк [24, с. 34]. Следовательно, стратегии обладают некоторой «степенью нормативности» (или бóльшей в сравнении с концепциями и доктринами), что требует их разграничения с нормативно-правовыми актами. Важно также отметить, что законодатель никогда таким образом не соотносил указанные документы, это лишь доктринальное предположение, особенно с учетом того, что концепции вообще не упоминаются в Законе о стратегическом планировании, а доктрины допускаются только в сфере обеспечения национальной безопасности.
Отнесение актов стратегического планирования к особым политико-правовым актам-документам для целей отграничения от нормативных правовых актов также малопродуктивно, поскольку, например, Конституция РФ является политико-правовым актом, но при этом ее место и наличие юридической силы в системе формальных источников права и в системе нормативных правовых актов никем не оспаривается. Следует учитывать, что в актах стратегического планирования всегда отражается правовая политика – это выраженная в правовых формах государственная политика, являющаяся легитимной основой для политического, экономического, социального, культурного направлений развития государства. Легитимность стратегическим актам-документам придает только квалификация их в качестве правовых актов.
Правовая политика может быть представлена в двух формах: « целевые ориентиры (границы) и/или идеи (система идей, взглядов), соблюдение которых обеспечивает приемлемость результатов правотворчества и/или конкретные импульсы или установки (определение рисков развития той или иной ситуации / общественных отношений; указание приоритетов развития, целей различного уровня (от самого верхнего – геостратегического – уровня и ниже), задач и направлений движения, необходимых для обеспечения установленных приоритетов и достижения целей), которые даются субъектам, участвующим в правотворческой деятельности» [5, с. 18]. Как видим, первая из названных форм реализуется при стратегическом планировании в рамках целеполагания, а вторая – в рамках прогнозирования, программирования и планирования.
Фактически речь идет о правовых обязывающих предписаниях для субъектов правотворческих процессов всех уровней. Интересно заметить, что в исследовании, специально посвященном влиянию правовых актов на правовую политику, акты стратегического планирования и другие политико-правовые акты даже не упоминаются.
К сожалению, в отечественной теории права уделяется недостаточно внимания общему понятию и системе правовых актов, чаще всего их исследование ограничивается спецификой нормативных и правореализационных актов, без акцентирования внимания на их родовом понятии. Любая дифференциация правовых актов в современной доктрине представлена преимущественно их делением на нормативные и индивидуальные, то есть правовые акты либо устанавливают правовые нормы, либо направлены на установление конкретных прав и обязанностей в определенном правоотношении. Отсюда и традиционное понимание правового акта: «волеизъявление управомоченного субъекта права, принятое и оформленное в установленном порядке, содержащее в себе нормативные или индивидуально определенные предписания, направленные на регулирование общественных отношений и влекущие юридические последствия» [22, с. 8].
В качестве главного признака правовых актов выделяется их «происхождение» от определенного уполномоченного субъекта.
В попытках определить место актов стратегического планирования в системе права появилась концепция квазинормативных актов, к которым стали причислять акты стратегического планирования [8, с. 7]. При этом все правовые акты предлагается разделять на два типа: неиндивидуализирован-ные (нормативные и квазинормативные) и индивидуализированные. Однако ущербность такого подхода для характеристики актов стратегического планирования в том, что политико-правовые, программные документы могут содержать и индивидуальные правовые предписания.
Заслуживает внимания теория атипичных правовых актов, под которыми предлагается понимать «правовые акты с нехарактерными признаками, чертами, свойствами или функциями» [10, с. 260]. К ним относят нормативно-правовые акты с интерпретационными, правореализационными (нормативный договор) и правоприменительными (закон о бюджете на очередной год) элементами. Таким образом, атипичные правовые акты рассматриваются, прежде всего, как нормативные акты с ненормативными элементами. На наш взгляд, при выделении атипичных правовых, особенно смешанных, актов не следует отдавать предпочтение нормативному или ненормативному составляющему. В актах стратегического планирования большая часть содержания – это ненормативные элементы.
По нашему мнению, видится наиболее продуктивной для целей настоящей работы теория С.А. Голунского о существовании нетрадиционных нормативно-правовых актов. Еще в прошлом веке он заметил в отношении нормативных правовых актов, что некоторые из них содержат не только нормы права, но и элементы из других правовых актов (интерпретационных, реализационных): «нормы права отнюдь не исчерпываются абстрактными предписаниями, запретами и дозволениями, но включают в себя и многое другое, в частности, постановку определенных задач и указание путей их разрешения» [6, с. 220].
Строгое деление правовых актов на нормативно-правовые, интерпретационные, правоприменительные и правореализующие построено на том, что каждый из этих актов содержит только однородные компоненты (нормы права, герменевтические разъяснения, индивидуальные предписания властных субъектов, решения отдельных субъектов, действующих на основании автономии их воли). Однако имеют место и смешанные, гибридные правовые акты.
В русле этого подхода современные исследователи стали понимать правовой акт как оформленную в установленном порядке совокупность юридических предписаний, выражающих волю субъекта (субъектов) права, направленных на регулирование общественных отношений и влекущих определенные юридические и иные социальные последствия [10, с. 260]. При этом такие юридические предписания могут быть неоднородны, иметь различную правовую природу.
Стала формироваться теория нетипичных (нетрадиционных) правовых актов, при этом обращается внимание, что такие правовые акты могут содержать не только юридические, но и иные социальные предписания, и влечь как правовые, так и иные последствия [9, с. 13–16]. Среди нетипичных правовых актов выделяют смешанные и комплексные. Акты стратегического планирования могут быть отнесены только к смешанным, поскольку комплексные нетипичные акты предполагают объединение разных элементов в рамках одного вида правового акта, тогда как в актах стратегического планирования объединены элементы из разных видов правовых актов. Необходимость смешанных правовых актов может быть обусловлена их целями, функциями, сферой распространения, потребностями оптимизации юридической техники, экономией правового массива и другими факторами.
Препятствием к отнесению актов стратегического планирования к правовым актам долгое время являлось отсутствие у них юридических последствий (возникновение субъективных прав и юридических обязанностей, наступление юридической ответственности, изменение правового статуса и правового режима, а также возникновение, изменение или прекращение правовых отношений). Однако в последние годы юридические последствия правовых актов рассматриваются в более широком смысле, включающем и результаты «волеизъявления политико-правового характера, и иные акты реализации функций уполномоченного субъекта, предусмотренных законодательством», и, как следствие, выделяются правовые акты строго юридического характера и политико-правовые акты [15, с. 9].
В научной литературе акты стратегического планирования уже стали определять, как правовые акты, содержащие совокупность определенных предписаний. К примеру, под финансово-плановыми актами предлагается понимать «правовые акты, которые содержат показатели, стратегические цели и иные предписания, связанные с финансовым планированием и формирующие целостное представление о предмете регулирования (финансовой системе, бюджетной системе, состоянии финансов в определенной сфере государственной политики и т. д.) в будущем» [12, с. 14]. Документы стратегического планирования являются правовыми актами особого вида (нетипичными), содержащими элементы различной правовой природы.
-
1. Ненормативные положения, констатирующие современное состояние дел в определенной сфере, в том числе вызовы и угрозы, и возможные тенденции его изменения.
-
2. Нормативные правовые предписания. Следует признать, что акты стратегического планирования содержат незначительное количество правовых норм в традиционном их понимании, что дает ученым основание для вывода о том, что политико-правовые акты «не являются и нормативными правовыми актами. Это связано с тем, что степень их форма-лизованности ниже, чем нормативных правовых актов; они не закрепляют конкретных прав и обязанностей, зачастую содержат лишь общие направления, показатели, к достижению которых должно стремиться государство, а то и вовсе изобилуют теоретическими положе-
- ниями, которые не имеют регулирующего значения» [19, с. 77]. По мнению многих ученых, такие акты в большей степени ориентируют и декларируют, чем регулируют.
-
3. Ненормативные (индивидуальные) предписания, содержащиеся в актах стратегического планирования, направлены, как правило, на их реализацию и предписывают принятие разнообразных политических, организационных, социально-экономических, правовых, информационных, дипломатических, военных, специальных и иных мер уполномоченными субъектами.
Однако правоприменительная практика свидетельствует, что такие положения подлежат обязательному учету и при разработке нормативных правовых актов, а при неучете такие акты могут быть признаны недействующими.
В пользу нормативной природы актов стратегического планирования свидетельствует и то, что они оспариваются в порядке административного судопроизводства заинтересованными лицами именно как нормативные правовые акты [2; 3], причем чаще всего – схемы территориального планирования и государственные программы, которые в науке в самую последнюю очередь оцениваются как акты, содержащие нормы права.
Следует подчеркнуть, что правовое регулирование (воздействие) на общественные отношения может быть как непосредственным, так и опосредованным. И соответственно, правовые нормы, содержащие конкретные правила поведения по юридико-технической модели «если – то», обладают непосредственным регулирующим значением, в отличие от нетипичных нормативных предписаний, которые хотя и опосредованно, но также регулируют общественные отношения [7].
Безусловно, стратегические правовые акты не могут рассматриваться как содержащие исключительно индивидуальные предписания, однако они содержат индивидуальные предписания наряду с нормативными. Например, в Стратегии экономической безопасности сделаны следующие ненормативные индивидуальные распоряжения:
-
– Правительство РФ обязано установить порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти при реализации Стратегии;
– Правительство РФ каждые шесть лет вносит предложения по корректировке Стратегии при участии Совета Безопасности Российской Федерации с учетом результатов мониторинга ее реализации и изменений, оказы-
- вающих существенное влияние на состояние экономической безопасности;
– Правительство РФ организует и обеспечивает выполнение мер организационного, нормативно-правового и методического характера, необходимых для реализации настоящей Стратегии;
– Правительство РФ представляет ежегодный доклад Президенту Российской Федерации о состоянии экономической безопасности Российской Федерации и мерах по ее укреплению.
Однако обязывающие правовые нормы в актах стратегического планирования присутствуют. Так, в той же Стратегии экономической безопасности указано, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, Центральный банк РФ, государственные корпорации, компании с преобладающим участием Российской Федерации и иные организации обеспечивают реализацию Стратегии в соответствии со своей компетенцией. Как видим, данное предписание является обязывающей правовой нормой, она обращена к неопределенному кругу лиц.
К индивидуальным предписаниям относят плановые показатели федеральных целевых программ, поскольку они не отвечают признакам нормативности, адресованы государственному заказчику [4, с. 27].
Соотношение указанных правовых предписаний в отдельных видах актов стратегического планирования также различно. Например, такие стратегические документы, как планы мероприятий по реализации стратегий и иных стратегических документов и планы деятельности органов власти, содержат преимущественно ненормативные предписания индивидуального характера с определением конкретных исполнителей и сроков исполнения, видимо, по этой причине подавляющее число из них официально не опубликованы. Стратегии, доктрины и концепции включают в себя, как правило, все из перечисленных правовых предписаний.
Выводы
Таким образом, рассмотрение актов стратегического планирования через концепции нормативных правовых актов, ненорма- тивных правовых актов, квазинормативных актов, атипичных правовых актов не раскрывает их правовой природы. Акты стратегического планирования являются нетипичными смешанными правовыми актами, интегрировано объединяющими в рамках одного правового акта элементы различной правовой природы (ненормативные положения, нормативные правовые предписания и ненормативные (индивидуальные) правовые предписания). Нормативные правовые предписания в актах стратегического планирования представлены преимущественно нетипичными правовыми предписаниями, но могут содержать и «типичные» правовые нормы.
Список литературы Правовая природа актов стратегического планирования
- Алексеев, С. С. Общая теория права / С. С. Алексеев. - М.: ТК Велби: Проспект, 2008. -576 с.
- Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2020 № 4-АПА19-43. - Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
- Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 13.11.2019 № 44-АПА19-33. - Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
- Ванин, В. В. Правовое регулирование удовлетворения государственных нужд в рыночной экономике России: теория и практика: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Ванин Виталий Владимирович. -Ростов н/Д, 2007. - 49 с.
- Габов, А. В. Энергетическая стратегия Российской Федерации как политико-правовой документ в сфере энергетики / А. В. Габов, Л. И. Черкесова // Энергетическое право: модели и тенденции развития: сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. А. В. Габова. - Белгород, 2021. -С. 17-34.
- Голунский, С. А. Теория государства и права / С. А. Голунский, М. С. Строгович. - М.: Юриз-дат, 1940. - 304 с.
- Давыдова, М. Л. Классификация нормативно-правовых предписаний по степени их общности / М. Л. Давыдова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5, Юриспруденция. - 2003. - № 6. - С. 50-55.
- Домченко, А. С. Нормативный правовой акт органа исполнительной власти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Домченко Артем Сергеевич. -Екатеринбург, 2019. - 23 с.
- Ижокин, Р. А. Нетипичные правовые акты в регулировании личных отношений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ижокин Роман Алексеевич. - Владимир, 2008. - 23 с.
- Кивленок, Т. В. Смешанные правовые акты как вид атипичных правовых актов / Т. В. Кивленок // Бизнес в законе. - 2009. - №> 1. - С. 260-263.
- Копылов, И. А. Национальная безопасность современной России через призму политико-правовых и нормативных документов государства / И. А. Копылов, А. И. Сацута // Вестник Екатерининского института. - 2017. - №2 3 (39). - С. 50-55.
- Кудряшова, Е. В. Государственное финансовое планирование: правовая доктрина и практика: дис. ... д-ра юрид. наук / Кудряшова Екатерина Валерьевна. - М., 2018. - 415 с.
- Мадаев, Е. О. Доктрина как политико-правовой документ в Китае и России / Е. О. Мадаев // Государство и правовые системы стран азиатско-тихоокеанского региона. Проблемы государственно-правового сотрудничества в условиях кризиса международного права: материалы VIII Между-нар. науч. -практ. конф. - Улан-Удэ, 2021. - С. 24-31.
- Маланыч, И. Н. Понятие стратегического нормативного акта как результата эволюции системы законодательства России / И. Н. Маланыч // Юридические записки Воронежского государственного университета. - 2009. - Вып. 22. - С. 117-130.
- Малько, А. В. Доктринальные акты как основные инструменты правовой политики / А. В. Малько, Я. В. Гайворонская // Право. Журнал Высшей школы экономики. - 2018. - №9 1. - С. 4-25.
- Матненко, А. С. Правовое регулирование программно-целевого метода бюджетной деятельности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Матненко Александр Сергеевич. - Омск, 2009. - 42 с.
- Моисеев, Д. С. Нормативно-правовые акты стратегического характера, как источники административного права / Д. С. Моисеев // Актуальные вопросы юридической науки и практики: сб. науч. тр. членов Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Вып. 9. - Тамбов: Принт-Сервис, 2019. - С. 236-240.
- Мушинский, М. А. Стратегии, концепции, доктрины в правовой системе Российской Федерации: проблемы статуса, юридической техники и соотношения друг с другом / М. А. Мушинский // Юридическая техника. - 2015. - №> 9. - С. 488-499.
- Пляхимович, И. И. Юридическая природа концепций совершенствования законодательства и иных политико-программных документов / И. И. Пля-химович // Вестник Конституционного суда Республики Беларусь. - 2007. - №> 2. - С. 71-82.
- Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 16.08.2022 №> Ф02-2716/2022 по делу № А33-37119/2020. - Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
- Ромашов, Р. А. Правовые доктрины и доктринальные правовые акты / Р. А. Ромашов // Юридическая наука: история и современность. - 2015. -№ 10. - С. 19-24.
- Симикин, Д. С. Судебные акты в системе правовых актов современной России: общетеоретический аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Семикин Дмитрий Сергеевич. - Саратов, 2008. -30 с.
- Стрельников, К. А. Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности современного государства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Стрельников Константин Анатольевич. - Н. Новгород, 2004. - 31 с.
- Хижняк, Д. С. Соотношение законодательных актов, государственных концепций и стратегий в осуществлении правовой политики: российский и зарубежный опыт / Д. С. Хижняк // Правовая политика и правовая жизнь. - 2019. - № 2. - С. 30-34.
- Хмелева, Г. А. Базовые принципы стратегического подхода к конвертации приграничного положения российских сопредельных регионов в конкурентные преимущества / Г. А. Хмелева, С. С. Асанова, М. В. Курникова // Экономика, предпринимательство и право. - 2022. - Т. 12, № 8. -С. 2161-2176.
- Шопина, О. В. Система правовых актов в современной России: проблемы теории: дис. ... канд. юрид. наук / Шопина Оксана Валерьевна. -Саратов, 2002. - 134 с.