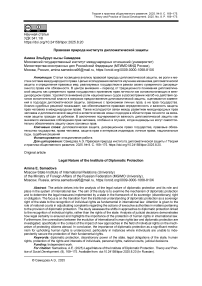Правовая природа института дипломатической защиты
Автор: Самедова А.Э.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 8, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу правовой природы дипломатической защиты, ее роли и места в системе международного права. Целью исследования является изучение механизма дипломатической защиты и определения правовых мер, реализуемых государством в рамках своего суверенного (дискреционного) права или обязанности. В центре внимания – переход от традиционного понимания дипломатической защиты как суверенного права государства к признанию прав личности как основополагающих в международном праве. Уделяется внимание роли национальных судов в рассмотрении жалоб на действия органов исполнительной власти в вопросах предоставления дипломатической защиты, оцениваются изменения в подходах дипломатической защиты, связанные с признанием личных прав, а не прав государства. Анализ судебных решений показывает, как обеспечивается правовая определенность и важность защиты прав человека в международном праве. Также исследуются связи между развитием международных прав человека и дипломатической защитой в аспекте влияния новых подходов в области прав личности на механизм защиты граждан за рубежом. В заключение подчеркивается важность дипломатической защиты как значимого механизма соблюдения прав человека, особенно в случаях, когда индивиды не могут самостоятельно обеспечивать защиту своих основных прав.
Дипломатическая защита, дискреционное право государства, правовые обязательства государства, права человека, защита прав и интересов индивидов, личные права, национальные суды, судебные решения
Короткий адрес: https://sciup.org/149149046
IDR: 149149046 | УДК: 341.1/8 | DOI: 10.24158/tipor.2025.8.20
Текст научной статьи Правовая природа института дипломатической защиты
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России), Москва, Россия, ,
Moscow, Russia, ,
Дипломатическая защита и права личности: трансформация подходов в международном праве . Согласно Проекту статей о дипломатической защите 2006 г. из доклада Комиссии международного права (КМП), дипломатическая защита состоит в привлечении государством посредством дипломатических или иных мирных средств к ответственности другого государства за ущерб, причиненный его международно-противоправным деянием физическому или юридическому лицу, обладающему гражданством или национальностью первого государства1.
Как отмечает А.А. Нагиева, дипломатическую защиту следует рассматривать не только как право государства, но и как его конкретное действие, подчиненное нормам международного права, поскольку дипломатическая защита возникает именно с момента, когда государство приступает к фактическим действиям в защиту своего гражданина. Тогда как само право на ее осуществление определяется рамками, установленными международным правом2.
Статья 2 Проекта статей 2006 г. закрепляет право государства на осуществление дипломатической защиты3. Следовательно, государство обладает правом на осуществление дипломатической защиты в интересах своего гражданина или юридического лица, однако оно не несет международноправовой обязанности реализовывать это право. Решение о применении дипломатической защиты в отношении физических или юридических лиц государство принимает самостоятельно в каждом отдельном случае: оно может предоставить такую защиту даже без официального обращения со стороны пострадавших, а может и не удовлетворить соответствующую просьбу, если сочтет, что осуществление дипломатической защиты не отвечает его интересам (Колодкин, 2007: 111).
Во время обсуждения государствами – членами ООН Проекта статей о дипломатической защите в Комиссии международного права на этапе второго чтения Италия предложила, чтобы государства были обязаны предоставлять дипломатическую защиту, если ущерб гражданину является следствием серьезного нарушения «международного обязательства, имеющего основное значение для защиты человека» (право на жизнь, запрет пыток, бесчеловечного обращения, рабства и расовой дискриминации)4. Данный вопрос впоследствии был пересмотрен КМП, которая включила в окончательную редакцию Проекта статей о дипломатической защите новую статью (19) под названием «Рекомендуемая практика». В ней государствам рекомендуется надлежащим образом рассматривать возможность предоставления дипломатической защиты, особенно в случаях серьезного ущерба, учитывать позицию пострадавшей стороны и передавать ей любую компенсацию за вред от ответственного государства. Данное положение не налагает обязательства на государства и не ограничивает их дискреционные полномочия в отношении дипломатической защиты, однако оно подтверждает, что международное право движется в сторону признания права на дипломатическую защиту в случае серьезных нарушений прав человека.
В 2011 г. Конституционный суд Кореи сослался на ст. 19 Проекта статей и постановил, что корейские женщины, ставшие жертвами сексуального рабства во время Второй мировой войны по принуждению Японии, имеют право на защиту. Суд отклонил аргумент правительства Кореи, отметив, что такой шаг может ухудшить дипломатические отношения с Японией. Хотя суд указал, что при дипломатических действиях нужно учитывать стратегические соображения, связанные с международными отношениями, он посчитал, что абстрактная причина – «обострение дипломатических отношений» – не может быть оправданием для «игнорирования средств правовой защиты» для заявителей, которые сталкиваются с серьезными нарушениями своих основных прав5.
Таким образом, несмотря на возможные дипломатические последствия, государство обязано предпринимать все необходимые шаги для защиты прав своих граждан за рубежом, обеспечивая доступ к правосудию и эффективным средствам защиты от нарушений. Это также подчеркивает важность международного сотрудничества в обеспечении соблюдения прав человека и привлечении к ответственности тех, кто нарушает эти права.
В науке международного права существуют разные подходы к данному вопросу дипломатической защиты. Э. де Ваттель утверждал, что государство обязано защищать своих граждан за рубежом (1960: 254–255). Другой выдающийся исследователь в области дипломатической защиты, Э. Бочард, писал, что многие ученые рассматривают дипломатическую защиту как одновременно обязанность государства и его право. По его мнению, если это международная обязанность, то она носит моральный, а не юридический характер, так как нет средств, которые могли бы принудить государство к ее выполнению. Он также утверждал, что наличие такой обязанности по отношению к гражданам регулируется национальным правом государства, хотя в целом, согласно национальному праву, государство не имеет обязанности предоставлять дипломатическую защиту (Borchard, 1915: 29).
Как указано в комментариях к Проекту статей 2006 г., внутреннее законодательство государства может устанавливать обязанность предоставления дипломатической защиты своим гражданам и юридическим лицам. Однако в международном праве такой императивной нормы не существует. Вместе с тем стоит подчеркнуть, что в некоторых странах конституционные нормы прямо закрепляют обязанность государства защищать своих граждан за рубежом. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 61 Конституции Российской Федерации 1993 г., государство гарантирует защиту и покровительство своим гражданам за пределами своей территории1. Это положение обязывает Российскую Федерацию реагировать на возможные нарушения прав своих граждан, если такие нарушения происходят на территории иностранных государств, при этом речь может идти о нарушении как местного законодательства, так и международных обязательств.
В то же время во многих западных странах, несмотря на отсутствие прямых конституционных норм, устанавливающих обязанность по оказанию дипломатической защиты, такая обязанность фактически признается на практике. Например, в Израиле она подтверждена судебными решениями, а в таких странах, как США, Великобритания, Германия и Франция, граждане вправе рассчитывать на предоставление защиты. Однако окончательное решение всегда остается за государством, которое, руководствуясь принципом суверенитета, самостоятельно определяет, будет ли оказываться такая защита в каждом конкретном случае, учитывая политические и иные важные обстоятельства.
Право государства на осуществление дипломатической защиты было подтверждено и в практике Международного суда ООН. В частности, в решении по делу Барселонской компании тяги, света и энергии 1970 г. суд подчеркнул, что именно государство принимает решение о целесообразности защиты, ее объеме и прекращении, сохраняя свое дискреционное полномочие и руководствуясь собственными соображениями, включая политические и иные факторы, не обязательно связанные с конкретной ситуацией2.
Поскольку индивид не обладает locus standi, т. е. процессуальным правом напрямую обращаться в большинство международных судебных инстанций, вопрос защиты его прав через дипломатические каналы преимущественно решается в рамках национальной юрисдикции. Следовательно, отстаивание права на дипломатическую защиту должно происходить прежде всего в судебной системе государства, гражданином которого является пострадавший.
Основные многосторонние конвенции в области прав человека обязывают государства гарантировать лицам, находящимся под их юрисдикцией, эффективную защиту от нарушений закрепленных в этих конвенциях прав, а также предоставление действенных механизмов правовой защиты3. При этом не существует веских оснований считать, что государство не несет ответственности за защиту прав своих граждан, если такие права нарушаются за границей. Вопрос о том, имеет ли государство обязательство осуществлять экстерриториальную юрисдикцию в таких случаях, остается спорным. Однако, ссылаясь на дело В. Банковича против Бельгии в Европейском суде по правам человека4, Н. Каразиван утверждала, что отказ государства от осуществления дипломатической защиты своего гражданина может рассматриваться как молчаливое со- гласие с продолжающимся нарушением его прав человека. Поскольку исключительно государство гражданства имеет право осуществлять дипломатическую защиту, именно оно способно предпринять действия для прекращения таких нарушений. Соответственно, если государство не предпринимает никаких шагов в ситуации, когда его гражданин подвергается пыткам за рубежом, возникает вопрос: не свидетельствует ли это о том, что государство фактически допускает нарушение его фундаментальных прав (Karazivan, 2007: 348–349).
Суды ряда стран серьезно подходили к искам о дипломатической защите, прежде чем отклонить их, главным образом основываясь на том, чтобы соответствующее государство приняло меры для улучшения положения своих граждан1.
В деле Ф. Аббаси и других против государственного секретаря по иностранным делам и делам Содружества Великобритании2 в 2002 г. в Апелляционный суд Великобритании было подано исковое заявление с требованием обязать британское правительство предоставить дипломатическую защиту гражданам, находящимся в тюрьме Гуантанамо, которых задержали власти США. Суд установил, что решение правительства не предоставлять такую защиту может быть пересмотрено на основе законного ожидания защиты граждан, однако в данном случае пересмотр не был оправдан фактами, представленными суду. Впоследствии, в 2005 г., когда указанные граждане были освобождены, подтвердилось, что британское правительство действительно предпринимало усилия для их освобождения3.
Данный вопрос был предметом обсуждения и в Конституционном суде ЮАР в деле С. Ка-унды и других против президента ЮАР, в котором запрашивался приказ, обязующий правительство страны вмешаться дипломатическим путем в интересах группы граждан Южной Африки, арестованных в Зимбабве. Эти граждане, предположительно направлявшиеся в Экваториальную Гвинею для участия в перевороте, подвергались жестокому обращению в тюрьмах Зимбабве и опасались, что им откажут в справедливом судебном разбирательстве и что они могут быть приговорены к смертной казни в случае их экстрадиции в Экваториальную Гвинею. Суд отклонил иск, ссылаясь на факты и уважение к исполнительной власти в ведении внешней политики. Однако, несмотря на то что международное право не обязывает государства предоставлять дипломатическую защиту, суд признал, что Конституция ЮАР 1996 г., основанная на приверженности международным правам человека, налагает на правительство обязанность защищать своих граждан за рубежом. Судья А. Часкальсон отметил, что, согласно нормам международного права, на государстве может лежать обязанность принимать меры для защиты своих граждан в случаях серьезных и явных нарушений их прав человека. Если имеются весомые доказательства подобных нарушений, отказ в предоставлении помощи может быть трудным или даже невозможным. На практике такие запросы, как правило, не отклоняются государством, а в случае отказа, особенно при наличии правовых оснований, существует вероятность, что соответствующий судебный орган может обязать государство принять необходимые меры для защиты пострадавшего гражданина. Суд добавил, что, если решение правительства о предоставлении дипломатической защиты окажется нерациональным, он может вмешаться, а если правительство отказывается рассматривать законный запрос или действует недобросовестно или неразумно, он может потребовать от правительства должного рассмотрения этого вопроса4. Рациональность и недобросовестность – примеры оснований, по которым можно убедить суд пересмотреть решение. В результате, после вмешательства правительства ЮАР, группа была возвращена в Южную Африку.
Указанные решения еще раз подтверждают, что национальные суды способны оказывать давление на правительства, побуждая их к реализации дипломатической защиты, особенно в случаях, когда бездействие противоречит положениям национального законодательства. Рассмотрение судебных решений с позиций принципа рациональности (как это имело место в деле С. Каунды) или концепции законного ожидания (примененной в деле Ф. Аббаси) показывает, что государствам может быть предъявлено обязательство предоставления дипломатической защиты в интересах своих граждан за рубежом. Дискреционные полномочия исполнительной власти ограничиваются именно в интересах защиты основных прав личности. Этот правовой механизм позволяет использовать национальные меры правовой защиты для ограничения административных мер и продвижения дипломатической защиты. Востребованность дипломатической защиты способствует созданию эффективного механизма защиты прав человека на международной арене.
Личные права как основа дипломатической защиты . Э. Борчард утверждал, что в рамках современной цивилизации каждый индивид имеет основные права, признанные всеми государствами, которые считают себя частью международного сообщества, а права, которыми индивид обладает в иностранном государстве, вытекают из международного права и предоставляются ему в силу его гражданства (Borchard, 1915: 12–13). Таким образом, права человека не рассматривались как принадлежащие отдельным лицам как таковым, а исходили от государств как держателей международных прав. Кроме того, права человека обычно считались внутренним делом государств (Steiner, Alston, 2000: 127–130).
Однако ужасы нацистского режима привели к важному осознанию того, что реализация прав человека не может быть оставлена исключительно на усмотрение государств. Как заметил Г. Штайнер, предположение о добросовестной приверженности всех государств правам человека противоречит нашим знаниям о реальности и истории борьбы за права человека (Steiner, 2006: 756).
В результате развития в данном направлении защита прав человека стала рассматриваться как обязательство государств, но с правом их применения и защиты непосредственно для каждого лица. Многие исследователи утверждают, что такая динамика сделала бы дипломатическую защиту неактуальной, поскольку индивиды больше не пользуются правами человека в силу гражданства, а делают это в силу того факта, что государства обязаны предоставлять защиту прав человека всем лицам на своей территории независимо от их гражданства (Gaja, 2006: 382). Хотя эта точка зрения не учитывает относительную неэффективность существующих механизмов защиты прав человека, она показывает, что права человека все больше считаются принадлежащими индивиду, а не производными от государства (Vermeer-Künzli, 2006). Р. Хиггинс также отмечала, что «право человека – это право, которое он имеет по отношению к государству в силу того, что он является человеком, а не потому, что он гражданин этого государства (Higgins, 1994: 98).
Данное развитие концепции прав человека как личных прав стало очевидным после принятия международных соглашений, которые создали контрольные механизмы для их реализации. Например, принятие протокола 11 (ETS № 155)1 и последующие изменения к Европейской конвенции о правах человека являются ярким примером этой динамики, поскольку все государства – участники Конвенции теперь обязаны принимать индивидуальные жалобы. Кроме того, в настоящее время ЕС требует, чтобы любое государство, желающее стать кандидатом на вступление в союз, было участником Европейской конвенции о правах человека и признавало право на подачу индивидуальной жалобы2.
Специальный докладчик в рамках разработки Проекта статей об ответственности государств КМП Ф.В. Гарсия-Амадор также акцентировал внимание на том, что традиционный подход, связывающий права человека исключительно с государством гражданства, уже не соответствует современным реалиям, в которых фундаментальные права и свободы человека признаны универсальными и обязательными для всех государств3. В свою очередь, Ч.Ф. Амерасингхе хотя и рассматривает защиту прав человека и дипломатическую защиту как самостоятельные правовые механизмы, отмечает, что развитие одного из них может способствовать совершенствованию другого (Amerasinghe, 2008: 332–333).
Следовательно, реализация личных, гражданских, политических, социальных, экономических и других групп прав и свобод – это совместная обязанность всех государств международного сообщества. Государства в рамках Международного билля о правах человека берут на себя обязанность обеспечивать защиту прав и свобод как своих граждан, так и иностранцев, а невыполнение или нарушение этих обязательств создает почву для дипломатической защиты.
Заключение . По итогам исследования можно сделать вывод, что хотя в контексте международно-правовых норм дипломатическая защита остается дискреционным правом государства, вытекающим из его суверенитета, однако в законодательстве многих стран предусмотрено, что гражданам гарантируется защита их прав и свобод за рубежом.
Решения национальных судов показывают, что обязательство предоставлять дипломатическую защиту, если оно предусмотрено, можно найти в национальных правовых системах. Так, южноафриканский суд (в деле С. Каунды) вывел потенциальное обязательство предоставления ди- пломатической защиты из своей конституции, а британский суд (в деле Ф. Аббаси), в свою очередь, обосновал это право концепцией законного ожидания в своей правовой системе. Ограничения, возникающие из концепции законного ожидания и запрета на произвольные решения, способствуют правовой определенности и подтверждают верховенство закона, а также личное право на надлежащую правовую процедуру, как закреплено в международных договорах по правам человека.
Фундаментальный характер нарушений прав человека в этих делах побудил судей уделить особое внимание тому, насколько ответственно правительства подходили к вопросу осуществления дипломатической защиты. В тех случаях, когда у индивидов практически отсутствуют реальные механизмы отстаивания своих прав в рамках международной системы защиты прав человека, дипломатическая защита продолжает играть ключевую роль как средство обеспечения соблюдения этих прав.