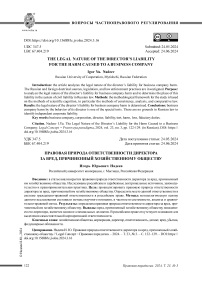Правовая природа ответственности директора за вред, причиненный хозяйственному обществу
Автор: Надеев И.Ю.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Вопросы частноправового регулирования: история и современность
Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье анализируется правовая природа ответственности директора за вред, причиненный им хозяйственному обществу. Исследованы российские и зарубежные доктринальные источники, законодательство и правоприменительная практика.
Хозяйственное общество, корпорация, директор, ответственность, деликт, вред, убытки, фидуциарные обязанности
Короткий адрес: https://sciup.org/149146811
IDR: 149146811 | УДК: 347.5 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2024.3.16
Текст научной статьи Правовая природа ответственности директора за вред, причиненный хозяйственному обществу
DOI:
Корпоративное право основывается на двух правилах, направленных на ограничение ответственности участников корпоративных отношений. Первое правило связано с ограничением имущественных рисков участников корпорации, согласно которому акционеры (участники) не отвечают по обязательствам корпорации и несут риск убытков в пределах стоимости их акций (долей). Второе правило направлено на ограничение ответственности лиц, входящих в состав органов управления корпорации (директоров) («правило делового решения» – business judgment rule) [30, p. 1140].
Считается, что данные правила стимулируют предпринимательскую активность, поскольку позволяют акционерам и директорам принимать рискованные бизнес-решения, не опасаясь возложения тяжкого бремени убытков, которые могут стать возможным последствием принятия таких решений [7, с. 25].
В иностранной литературе по корпоративному праву традиционно указывается, что основными фидуциарными обязанностями директора (по отношению к корпорации и ее участникам) являются обязанность по заботе (duty of care) и обязанность по лояльности (duty of loyalty) [27]. Таким образом, ответственность директора наступает в случае, если нарушение данных обязанностей стало причиной возникновения убытков у корпорации.
В этой связи отмечается, что фидуциарная обязанность по заботе (duty of care) и правило делового решения (business judgment rule) загадочным образом связаны друг с другом [19], особенно если при трактовке обязанности по заботе используются аналогии с деликтным правом [30, p. 1141]. Вопрос о правовой природе ответственности директора за убытки, причиненные им корпорации (хозяйственному обществу), остается дискуссионным как в российской, так и зарубежной науке.
Резул ьтаты
Следует отметить, что условием привлечения к деликтной ответственности за неосторожное (небрежное) причинение вреда (negligence) [31] является нарушением делик- вентом обязанности по заботе (duty of care) в отношении потерпевшего. Так, в специальной литературе указывается, что для привлечения к ответственности по данному специальному деликту суд должен установить наличие у деликвента обязанности (duty of care) в отношении потерпевшего; ее нарушение (breach), наличие фактической причинно-следственной связи (cause in fact), наличие «непосредственности» в причинении (ближайшая причина – proximate cause), а таже наличие вреда (damage) [24, p. 217–218]. Необходимым элементом данного специального деликта является то, что причиненный вред не должен быть слишком «отдаленным» (to remote), то есть он должен быть предвидимым (foreseeable) [29, p. 12].
В научной литературе отмечается, что на протяжении XX в. в сфере Common Law наблюдалась тенденция к снижению значения обязанности по заботе как пороговому условию для привлечения к ответственности. Так, некоторые ученые считают, что данная доктрина стала «удручающе непоследовательной, расфокусированной и зачастую бессмысленной» [20], поскольку в науке остаются дискуссионными вопросы о сфере применения данной обязанности, о круге лиц, на которых она возлагается и в пользу которых устанавливается, а также разновидности вреда, который подлежит возмещению в случае нарушения обязанности по заботе (duty of care).
Например, одни авторы считают, что обязанность проявлять заботу возлагается только на определенных лиц по отношению к другим конкретным лицам. Содержанием данной обязанности является необходимость избежать причинения вреда. Под таким вредом понимается в том числе и нефизический (nonphysical harms), например экономические потери или моральный вред. Данная обязанность может возникнуть только между конкретными (определенными) субъектами, находящимися в рамках конкретных (относительных) правоотношений (relational obligation) [32].
Однако более распространенным в науке является подход, согласно которому обязанность проявить заботу (duty of care) устанавливается в отношении неопределенного круга лиц. Таким образом, суд может признать наличие обязанности по заботе независимо от того, являются ли деликвент и потерпевший участниками какого-либо конкретного (относительного) правоотношения. Обязанность по заботе нереляционная, неотносительная (nonrelational) [21]. В отношении возмещаемого вреда отмечается, что данная обязанность направлена против создания неразумных, неоправданных рисков причинения физического вреда, то есть вреда личности (жизнь, здоровье) или вреда материальным объектам (собственности) [22]. Данному подходу в целом следует судебная практика в странах Common Law. Данный подход нашел отражение в Третьем своде деликтного права, поэтому может считаться нормой материального права (art § 7(a) Restatement (Third) of Torts, 2010). Допустимость возмещения «нефизического вреда» (моральный вред, экономические потери), согласно данному традиционному подходу, возможно только в определенных случаях, с учетом применяемых принципов и соображений правовой политики [23].
На этом основании можно констатировать, что традиционный (конвенциональный) подход к «деликтной» обязанности по заботе (duty of care) является «широким» в отношении субъектного состава, поскольку обязанность не причинять физический вред не ограничена необходимостью установления особого правоотношения между деликвентом и потерпевшим. Однако данный подход является «узким» в части ограничения подлежащего возмещению вреда. Это обусловлено спецификой англо-саксонского деликтного права, которому неизвестен принцип генерального деликта и относящегося к «прагматичному» подходу в части возможности возмещения чистых экономических потерь (pure economic loss), причиненных деликтом [2, c. 69–97].
Необходимо отметить, что в корпоративном праве США и других стран Common Law остается дискуссионным вопрос о правовой природе фидуциарной обязанности по заботе (duty of care). Отдельные авторы отрицают ее «деликтную» природу, особенно если придерживаются «контрактной» концепции корпоративного права [30, p. 1141]. Например, Марсель Кахан и Эдвард Рок (США) считают, что с концептуальной точки зрения очевидно, что нарушения фидуциарных обязанностей не являются деликтами в сфере Common Law, од- нако они могут быть квалифицированы как «гражданские правонарушения» (civil wrongs) [28]. Следует отметить, что ученые из других юрисдикций, входящих в сферу Common Law, допускают возможность квалификации нарушения директором своих фидуциарных обязанностей в качестве деликтов, поскольку деликтное право создает теоретическую основу для таких обязанностей директора [25].
Заслуживает внимания позиция Роберта Ри, рассматривающего правило делового решения и фидуциарную обязанность по заботе через призму теории и принципов деликтного права. Автор считает, что нельзя прямо утверждать, что нарушение фидуциарных обязанностей всегда является деликтом. Однако такое правонарушение не является и нарушением контракта. Его основной тезис заключается в том, что природа ответственности директора корпорации с учетом доктрин фидуциарных обязанностей и правила делового суждения может быть раскрыта только с позиций деликтного права [30]. Поскольку принципы деликтного права лежат в основе многих доктрин в сфере корпоративного права. Так, в корпоративном праве предусмотрено, что директор должен действовать в соответствии с поведенческим стандартом «обычной осторожности и осмотрительности» (Graham v. Allis-Chalmers Mfg. Co., Del. 1963). В одном из резонансных прецедентов (Smith v. Van Gorkom, Del. 1985) нарушение обязанности проявить заботу в отношении корпорации квалифицируется как «грубая неосторожность» (gross negligence). Таким образом, даже терминологический аппарат указывает на связь данной ответственности с деликтным правом.
Необходимо отметить, что российская научная доктрина в сфере корпоративного права признает частичную рецепцию подходов, разработанных в корпоративном праве США. Так, ряд российских ученых указывает, что «правило делового решения» (business judgment rule) предусмотрено положениями п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» [17; 18].
Так, А.А. Макеева отмечает, что положения указанного постановления «свидетельствуют об установлении в России аналога американского правила делового решения (business judgment rule). Оно закрепляет презумпцию добросовестности менеджера, если он действовал на основе всей доступной информации, добросовестно полагая при этом, что действует в наилучших интересах компании» [12].
Следует отметить, что в российской ци-вилистической науке развернулась достаточно активная дискуссия, связанная с влиянием англо-американского корпоративного права на разработку доктрины фидуциарных обязанностей в российском корпоративном праве [8; 10; 11; 13].
С учетом указанного влияния иностранного опыта на российскую научную доктрину вызывает интерес вопрос о правовой природе ответственности директора за убытки, причиненные коммерческой корпорации (хозяйственному общему) по российскому праву.
Так, многие российские ученые традиционно придерживаются позиции, что данная ответственность по своей правовой природе является внедоговорной ответственностью из причинения вреда (деликтная ответственность) [6]. Например, С.А. Синицын отмечает, что в российской науке отсутствует необходимость в квалификации корпоративной ответственности в качестве нового вида ответственности, поскольку это «только способствовало бы распочкованию положений о различных формах и мерах подотраслевой ответственности в предмете гражданского права в не связанные друг с другом нормы и институты, а также размножению видов гражданско-правовой ответственности» [14].
Заслуживает внимания то, что российская правоприменительная практика последовательно рассматривает ответственность директора за убытки, причиненные хозяйственному обществу, в качестве деликтной ответственности (Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 17.09.2019 № 305-ЭС19-8975).
Однако в российской научной литературе высказывается позиция о самостоятельной природе ответственности директора за убытки, причиненные хозяйственному обществу. Так, апологетом данного подхода является О.В. Гутников, указывающий, что критериями выделения корпоративной ответственности, помимо специфики корпоративных отноше- ний, является также и специфика корпоративных правонарушений. По мнению автора, корпоративная ответственность наступает за нарушение корпоративных обязанностей лицом, состоящим с корпорацией в относительных корпоративных правоотношениях (за нарушение «особых управленческих обязанностей»). Автор считает, что специфика корпоративных отношений предопределяет «сложность установления причинно-следственных связей между корпоративным правонарушением и его негативными последствиями». Поэтому в судебной практике, по сути, установлены доказательственные презумпции наличия причинноследственной связи. Еще одним отличием являются «презумпции невиновности нарушителя корпоративных обязанностей действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно». Этим, по мнению О.В. Гутнико-ва, корпоративная ответственность отличается от деликтной или договорной ответственности, где по общему правилу установлена презумпция вины правонарушителя. Далее автор, исчерпав аргументацию, начинает ссылаться и на «правило делового решения», а также «процессуальные особенности рассмотрения судами соответствующих корпоративных споров» [8].
Действительно, в научной литературе в качестве основного отличия договорной от деликтной ответственности указывают на то, что причинитель вреда и потерпевший не являются участниками относительных правоотношений, которые предшествуют факту причинения вреда [15, c. 187]. Однако гражданскому праву известны специальные деликты (деликтные обязательства), в которых де-ликвент и потерпевший состояли в относительных правоотношениях на момент причинения вреда.
Так, классическим примером данного феномена, посягающим на традиционное разграничение договорных и деликтных обязательств, является специальный деликт по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг (ст. 1095–1098 ГК РФ). Например, в рамках данного деликта покупатель вправе требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара. Далее, правилами ст. 800 ГК РФ предусмотрена обязанность перевоз- чика возместить вред, причиненный жизни или здоровью пассажира.
В работе Д.Е. Богданова, рассматривающего вопросы соотношения договорной и деликтной ответственности, а также расширение сферы императивной ответственности, приводится позиция Г. Гилмора, считавшего, что «конструкции деликтной ответственности стали более широко проникать в сферу договорной ответственности... договоры сегодня перекрываются влиянием деликтного права и деликтных конструкций, а право настоятельно движется к системе обязательств, основанных на законе, даже в областях, которые традиционно рассматривались как исключительная сфера договора» [3; 26, p. 87–88].
На этом основании можно констатировать, что позиция О.В. Гутникова не опровергает деликтную природу ответственности директора за убытки, причиненные им корпорации. По сути, О.В. Гутников просто подтвердил, что данный «корпоративный деликт» является особым, специальным деликтом в системе деликтов (деликтной ответственности) по российскому праву. По отношению к данному специальному деликту общими правилами являются положения гл. 59 ГК РФ. Следует отметить, что категория «корпоративного деликта» упоминается в работах и других авторов [5; 9; 14].
Представляет интерес позиция Конституционного Суда РФ, который неоднократно указывал, что применение норм о специальных деликтах «предполагает наличие как общих условий деликтной (то есть внедоговор-ной) ответственности (наличие вреда, противоправность действий его причинителя, наличие причинной связи между вредом и противоправными действиями, вины причинителя), так и специальных условий такой ответственности, связанных с особенностями субъекта ответственности и характера его действий» (Постановление Конституционного Суда РФ от 03.07.2019 № 26-П).
Таким образом, российское законодательство прямо предусматривает специальные деликты, которые отличаются от генерального деликта (ст. 1064 ГК РФ) условиями своей ответственности. Например, в силу п. 2 ст. 1070 ГК РФ вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу. Таким образом, по данному специальному деликту предусмотрен специальный порядок установления вины публично-правового образования. Поскольку вина деликвента (публично-правового образования) будет установлена только в том случае, если будет вынесен обвинительный приговор в отношении федерального судьи, ранее действующего от имени Российской Федерации при осуществлении правосудия.
Поэтому отсутствие презумпции вины директора не является уникальным явлением как для договорной, так и для деликтной ответственности. Например, презумпция невиновности перевозчика предусмотрена в ст. 118 Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Следует также отметить, что указанная О.В. Гутниковым презумпция причинно-следственной связи в рамках «корпоративного деликта» также не является уникальным явлением для гражданско-правовой ответственности как в российском, так и зарубежном праве.
Например, можно указать на «картельный» деликт, связанный с причинением вреда потерпевшим (покупателям товаров) в результате картельного сговора. Так, в п. 2 ст. 17 Директивы ЕС 2014/104/EU от 05.12.2014 предусмотрена опровержимая презумпция причинения картелем имущественного ущерба. Современная судебная практика ряда стран Европы (ФРГ, Италия, Нидерланды и т. д.) основывается на подходе, что размер такого презумируемого вреда, причиненного картельным сговором, составляет порядка 15 % от цены каждого товара, приобретенного покупателем у участника сговора. Таким образом, при наличии картельного сговора презумиру-ется как наличие вреда, так и причинно-следственной связи между таким сговором и вредом, возникшим у потерпевшего [1]. В научной литературе приводятся и другие примеры презумирования причинно-следственной связи в сфере деликтной ответственности как в российском, так и зарубежном праве [4]. На презумпцию причинно-следственной связи в сфере договорной ответственности указывается в абз. 2 п. 5 Постановления Пленума Верхов- ного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».
Выводы
Проведенный анализ позволяет констатировать, что выделенные учеными особенности «корпоративного деликта» не дают возможности подводить его под самостоятельный вид гражданско-правовой ответственности. Используя «бритву Оккама», можно утверждать, что «не следует множить сущее без необходимости» [16]. Как в российской, так и зарубежной научной доктрине указывается на неразрывную связь корпоративного деликта с общей концепцией деликтной ответственности.
«Корпоративный деликт», в том числе вред, причиненный корпорации поведением директора, можно квалифицировать как один из специальных деликтов. В российском праве отсутствуют основания для выделения самостоятельной корпоративной ответственности.
Список литературы Правовая природа ответственности директора за вред, причиненный хозяйственному обществу
- Богданов, Д. Е. Возмещение вреда, причиненного картелем, в российском и зарубежном праве / Д. Е. Богданов, С. Г. Богданова // Юрист. -2022. - № 4. - С. 34-40.
- Богданов, Д. Е. Эволюция гражданско-правовой ответственности. Опыт сравнительно-правового исследования / Д. Е. Богданов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. - 119 с.
- Богданов, Д. Е. Императивная ответственность в договорных отношениях с позиций справедливости // Законодательство и экономика. -2013.- № 3. - С. 27-35.
- Богданов, Д. Е. Влияние принципа справедливости на эволюцию учения о причинности в де-ликтной ответственности / Д. Е. Богданов // Адвокат. - 2012. - № 7. - С. 5-15.
- Быканов, Д. Д. Ответственность директора за сделки с конфликтом интересов: значение согласия участников и проблема двойного взыскания / Д. Д. Быканов // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2021. - № 5. -С. 76-84.
- Власова, А. С. Обычный предпринимательский риск в контексте ответственности руководителя юридического лица за причиненные ему убытки / А. С. Власова, Н. М. Удалова // Закон. - 2020. -№ 3. - С. 79-89.
- Гутников, О. В. Фидуциарные обязанности в российском корпоративном праве / О. В. Гутников // Гражданское право. - 2019. - № 6. - С. 25-29.
- Гутников, О. В. Развитие корпоративной ответственности в судебной практике / О. В. Гутников // Журнал российского права. - 2021. - № 6. - С. 48-65.
- Долинская, В. В. Проблемы взаимодействия деликтного права и права корпораций (корпоративного права) / В. В. Долинская // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2020. - № 9. - С. 9-17.
- Ломакин, Д. В. Фидуциарные обязанности участников корпоративных отношений: за и против / Д. В. Ломакин // Гражданское право. - 2019. -№ 4. - С. 3-8.
- Луценко, С. И. Правовые основания для фидуциарных обязанностей руководителя / С. И. Луценко // Современное право. - 2017. - № 9. - С. 56-63.
- Макеева, А. А. Поиск баланса в регулировании ответственности единоличного исполнительного органа / А. А. Макеева // Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». - 2020. -№ 4. - С. 52-60.
- Махалин, И. Н. Доктрина фидуциарных обязанностей: защитница доверия под маской английской шпионки / И. Н. Махалин // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. -2020. - № 1. - С. 152-200.
- Синицын, С. А. Деликтная ответственность в корпоративном праве / С. А. Синицын // Журнал российского права. - 2019. - № 10. - С. 54-68.
- Смирнова, М. А. Соотношение обязательственных требований в российском гражданском праве / М. А. Смирнова // Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 7 / под ред. О. Ю. Шилох-воста. - М., 2003. - С. 185-208.
- Смирнов, Г. А. Оккам, Уильям / Г. А. Смирнов // Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 3. -2-е изд., испр. и доп. - М.: Мысль, 2010. - С. 142-144.
- Шелудяев, В. В. Привлечение к ответственности по крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью, проблемы и специфика / В. В. Шелудя-ев, Е. А. Зверюкова // Журнал предпринимательского и корпоративного права. - 2023. - № 4. - С. 20-24.
- Шиткина, И. С. Исполнительные органы хозяйственного общества: монография / И. С. Шит-кина. - М.: Статут, 2022. - 316 с.
- Allen, W. T. Commentaries and Cases on the Law of Business Organization / W. T. Allen, R. H. Kraakman. - Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2017. - 721 p.
- Cardi, W. J. The Hidden Legacy of Palsgraf: Modern Duty Law in Microcosm / W. Cardi // Boston University Law Review. - 2011. - Vol. 91.-P. 1873-1913.
- Cardi, W. J. Duty Wars / W. J. Cardi, M. D. Green // California Law Review. - 2008. -Vol. 81. - P. 671-721.
- Cardi, W. J. Purging Foreseeability: The New Vision of Duty and Judicial Power in the Proposed Restatement (Third) of Torts / W. J. Cardi // Vanderbilt Law Review. - 2005. - Vol. 58. - P. 739-770.
- Choi, P. The Duty of Care as a Duty in Rem / P. Choi // Journal of Law: Periodical Laboratory of Leg. Scholarship (1 New Voices). - 2014. - Vol. 4. - P. 307-336.
- Farnsworth, W. Torts: Cases and Questions / W. Farnsworth, M. F. Grady. - 2nd ed. - Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law & Business, 2009. -800 p.
- Farrar, J. H. Directors' Duties of Care / J. H. Farrar // Singapore AcAD Law Journal. - 2011. - Vol. 23. -P. 745-754.
- Gilmore, G. The Death of Contract/ G. Gilmore. -Columbus (Ohio): Ohio State University, 1974. - 151 p.
- Gubler, Z. J. The Neoclassical View of Corporate Fiduciary Duty Law / Z. J. Gubler // The University of Chicago Law Review. - 2024. - Vol. 91. -P. 165-238.
- Kahan, M. When the Government Is the Controlling Shareholder / M. Kahan, E. B. Rock // Texas Law Review. - 2011. - Vol. 89. - P. 1293-1327.
- Mullis, A. Torts / A. Mullis, K. Oliphant. -3rd ed. - Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003. -422 p.
- Rhee, R. J. The Tort Foundation of Duty of Care and Business Judgment / R. J. Rhee // Notre Dame Law Review. - 2013. - Vol. 88. - P. 1139-1198.
- Steel, S. Rationalising Omissions Liability in Negligence / S. Steel // Law Quarterly Review. - 2019. -Vol. 135. - P. 484-509.
- Zipursky, B. C. The Restatement (Third) and the Place of Duty in Negligence Law / B. C. Zipursky, J. C. P. Goldberg // Vanderbilt Law Review. - 2001. -Vol. 54. - P. 657-750.