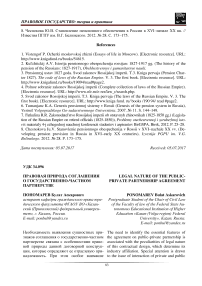Правовая природа соглашения о государственно-частном партнерстве
Автор: Пономарев Булат Аскарович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Статья в выпуске: 3 (49), 2017 года.
Бесплатный доступ
Необходимость выявления сущностных признаков соглашения о государственно-частном партнерстве связана с особенностями правовой природы данной договорной конструкции, которые определяют ее отраслевую принадлежность. При этом особое внимание привлекает вопрос о взаимодействии частных и публичных интересов в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве. Исследование принципов партнерских отношений, возникающих на базе этого соглашения, позволяет делать вывод об их соотносимости с основными началами гражданского права. Анализ составных частей рассматриваемого соглашения свидетельствует о том, что они в большей степени представляют собой гражданско-правовые договорные конструкции. Проведенное исследование позволяет сформулировать вывод о том, что партнерские правоотношения, возникающие в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, носят преимущественно гражданско-правовой характер.
Правовая природа, государственно-частное партнерство, соглашение о партнерстве, концессионное соглашение, принципы партнерства, частный интерес, смешанный договор
Короткий адрес: https://sciup.org/142233894
IDR: 142233894 | УДК: 34.096
Текст научной статьи Правовая природа соглашения о государственно-частном партнерстве
В современных исследованиях в области государственно-частного партнерства (далее также – ГЧП) правовая природа соглашения о партнерстве (далее также – СГЧП) остается спорной. Несмотря на то, что в настоящее время данный вопрос, казалось бы, разрешен на законодательном уровне, научная дискуссия по этой теме не прекратилась, получив новый импульс [30]. Так, Белицкая А.В. считает, что указание на гражданско-правовую природу СГЧП является недоработкой законодателя, так как в данном договоре усматриваются и публичноправовые элементы [5, с. 17]. Д.В. Качкин и Р.Р. Репин, напротив, поддерживают положения, сформулированные в ФЗ “О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее также – ФЗ-224) [16, с. 150; 30].
Прежде чем перейти к рассмотрению заявленной темы необходимо определить содержание категории «правовая природа». Как справедливо указывает С.В. Малюгин, эта дефиниция достаточно часто используется в научной литературе и правоприменительной практике, однако не существует ее общепринятого определения [19, с. 47]. Д.А. Братусь подчеркивает, что обстоятельная дискуссия по поводу понятия, содержания, видов и признаков этой правовой категории и вовсе отсутствует [8, с. 29]. В связи с этим обратимся к имеющимся по этому поводу доктринальным исследованиям.
Слово «природа» имеет своё лексическое значение – основное свойство, сущность [20] или качество чего-либо [14]. По мнению С.С. Алексеева правовая природа представляет собой юридическую характеристику явления, выражающую его функции, особенности и роль среди других правовых явлений [3, с. 227]. С ним соглашается Е.Г. Комиссарова, конкретизируя, что выявление правовой природы явления заключается в анализе его существенных свойств и раскрытии основания (“правового корня”) [18, с. 29]. В свою очередь В.А. Захаров правовую природу явления предлагает определять через отраслевую принадлежность тех норм, которые регулируют возникающие общественные отношения [15, с. 52].
Представляется разумным рассматривать предложенные определения в комплексе. Следуя логике указанных авторов, правовую природу можно установить путем определения отраслевой принадлежности норм права, регламентирующих анализируемую категорию, и выявления сущностных признаков, качественно отличающих ее от других правовых явлений. Такой порядок является оптимальным, так как позволяет наиболее полно раскрыть особенности СГЧП.
Известно, что на доктринальном уровне сложилось три подхода к определению правовой природы инвестиционных соглашений, заключаемых для реализации проектов ГЧП [22, с. 13]. Согласно первому такие договорные конструкции представляет собой разновидность административного договора. Так, С.В. Шорохов на примере концессионного соглашения выделяет следующие его публично-правовые признаки:
-
1) оно оформляет отношения между неравными по статусу субъектами;
-
2) объекты соглашений находятся в публичной собственности;
-
3) в концессионном соглашении за концедентом (публичным партнером) признаются определенные односторонние права;
-
4) стороны обязаны использовать типовые формы соглашения [31, с. 11-12].
С.А. Сосна в этой связи отмечает, что концессионное соглашение можно рассматривать как договор, примыкающий к гражданско-правовому, но не тождественный ему, так как он обязательно несет в себе публично-правовые признаки [27, с. 46-48]. Таким образом, резюмирует В.Е. Сазонов, возникающие в сфере ГЧП правовые отношения в большей степени относятся к объектной области регулирования административного права [23, с. 13]. Следовательно, наличие перечисленных признаков, по мнению этой группы авторов, достаточно для признания любой договорной формы рассматриваемого института, в том числе СГЧП, административным договором.
С этой позицией трудно согласиться. Как указывают Д.В. Качкин и Р.Р. Репин, субъектный состав СГЧП не может явиться основанием для его причисления к публичноправовым договорам [16, с. 149]. В силу ч. 1 ст. 124 ГК РФ публичные образования в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, выступают на равных началах с гражданами и юридическими лицами [11]. Авторы приходят к обоснованному выводу, что публичный партнер, будучи стороной СГЧП, реализует свою гражданскую правоспособность, а не публичную компетенцию.
Признание за публичным партнером определенных односторонних прав также нельзя рассматривать в качестве достаточного аргумента в пользу административно-правового характера СГЧП, считает Д.А. Самоволов [25, с. 142]. Неравноценное распределение прав и обязанностей характерно для многих гражданско-правовых договоров. Этот вывод справедлив и к тому утверждению, что объектом СГЧП является государственная или муниципальная собственность. Гражданским законодательством предусмотрены договорные конструкции, в той или иной форме связанные с отчуждением публичной собственности в частные руки или передачей её во временное пользование и владение. Поэтому в этом смысле соглашения, заключаемые в рамках проектов ГЧП, не уникальны.
Изложенные аргументы представляются обоснованными. Действительно, договорные формы ГЧП обладают некоторыми публичными признаками, что обусловлено спецификой самого института, однако их влияние на сущность возникающих правоотношений невелико.
Второй подход к пониманию правовой природы соглашений, заключаемых для реализации проектов ГЧП, является переходным, его сторонники считают, что такие договоры нельзя однозначно признать ни публично-правовыми, ни частноправовыми [9, с. 248; 24, с. 46]. Эта позиция также представляется недостаточно аргументированной. Справедливо считается, что публично-частных правоотношений не существует, так как они могут быть либо частными, либо публичными [22, с. 20]. Очевидно, что любая правовая категория, может
содержать в себе разные по происхождению элементы, однако определенная их часть всегда является превалирующей над другими. Анализ этих структурных частей как раз позволяет установить правовую природу данного явления.
Третьим распространенным подходом по вопросу правовой природы соглашений, заключаемых для реализации проектов ГЧП, является их отнесение к числу частноправовых договоров. Среди сторонников этой позиции Попондопуло В.Ф. [20, с. 167], Д.В. Качкина и Р.Р. Репина [16], Д.А. Самоволова [26, с. 22] и др. Мнение указанных исследователей представляется наиболее обоснованным, так как на гражданско-правовой характер рассматриваемых соглашений указывают вполне определенные признаки.
В первую очередь, следует определить, чем мотивированы стороны, принимающие решение об участии в проекте ГЧП. Фактически, речь идёт о выявлении субъективного интереса каждого партнера (часть 2 статьи 1 ГК РФ). Д.Н. Горшунов приходит к выводу, что интерес является “правообразующей” категорией и определяет тот или иной набор специфический юридических средств, воздействующих на общественные отношения [10, с. 73]. Из этого следует, что отраслевая принадлежность конкретного соглашения зависит от мотивации, которая побуждает лица принять участие в реализации проекта.
Есть основания полагать, что партнеры намерены удовлетворить общественный интерес, так как главной целью ГЧП является удовлетворение потребностей населения путем решения государственных и социально-значимых задач. Однако к этому утверждению следует отнестись с долей скепсиса. На наш взгляд, вступая в договорные отношения, в первую очередь, партнёры преследуют личные (частные) интересы.
В этой связи Д.В. Качкин и Р.Р. Репин указывают, что публичное образование, взаимодействуя с частным субъектом, стремится к непосредственному удовлетворению своего собственного интереса как субъекта гражданского права. А озвученный ранее общественный интерес в СГЧП не находит своего прямого выражения. Соглашение является лишь предпосылкой его удовлетворения [16, с. 147].
Действительно, публичный партнер прибегает к механизмам ГЧП лишь тогда, когда бюджетных средств на поддержание и развитие принадлежащей ему инфраструктуры недостаточно, требуется помощь извне. Поэтому в отношениях с частным партнером он действует как субъект гражданских правоотношений, а не властная структура, что исключает вертика-лизацию их отношений и, более того, субординацию между ними.
Инвестор, в свою очередь, вкладывая средства, опыт и технические решения в реализацию проекта ГЧП, рассчитывает получить достойное вознаграждение. То есть преследует цель извлечения прибыли, которая состоит в возможности последующего возврата вложенных инвестиций в денежном выражении или приобретения определенных прав на объект соглашения. Общественный интерес в этом случае для частного партнёра второстепенен. Удовлетворение потребностей общества и повышение качества предоставляемых населению товаров и услуг фактически является для него лишь факультативным стимулом.
Из этого следует, что стороны соглашения о ГЧП в большей мере преследуют свои собственные интересы, приоритет которых при реализации СГЧП является первым и основным признаком, свидетельствующим о его гражданско-правовой природе.
Вторым подтверждением частноправовой природы СГЧП являются принципы, на которых основаны возникающие партнерские правоотношения. Они отчётливо характеризуют сущность и содержание последних. Среди них выделяются принципы равноправия партнеров, добровольности их участия в проекте, конкуренции и информационной открытости, взаимной ответственности и справедливого распределения рисков между ними, возмездности и невмешательства [6, с. 13-14; 1, с. 17]. Почти все они закреплены в статье 3 и других положениях ФЗ-224. Очевидно, что изложенные принципы созвучны и во многом совпадают с основными началами гражданского права и законодательства (часть 1 статьи 1 ГК РФ), под которыми в науке понимают важнейшие концептуальные положения, определяющие содержание правового регулирования гражданско-правовых отношений с учетом их специфики [21, с. 3].
Так, принцип равноправия сторон представляет собой один из вариантов трактовки принципа равенства участников гражданско-правовых отношений. Раскрывая его суть, Ю.К. Толстой отмечает, что ни одна из сторон в гражданском правоотношении не может только по занимаемому ею положению предопределять поведение другой [28, с. 51]. Таким образом, обе стороны соглашения о ГЧП действуют в качестве полноправных партнеров и не допускают по отношению друг к другу какой-либо дискриминации, отношений подчинения или неузаконенных привилегий [4, с. 17].
Добровольность участия сторон в проекте ГЧП подразумевает, что они самостоятельно решают вопрос вступления в договорные отношения друг с другом [17, с. 13]. Кроме того, стороны сами определяют условия договора, в частности, его предмет, взаимные права и обязанности, содержание обязательств и пр. [12, с. 35]. Это положение вытекает из закрепленного в статье 421 ГК РФ принципа свободы договора.
Обеспечение конкуренции воплощается в предоставлении равного доступа к участию в проекте ГЧП для потенциальных инвесторов. При этом применяются открытые конкурсные процедуры, позволяющие отобрать наиболее подходящую кандидатуру частного партнера. Принцип информационной открытости призван защитить участников проекта ГЧП от произвола государственных органов и их должностных лиц [5, с. 23]. Он включает в себя обязанность обнародовать в средствах массовой информации ход и результаты конкурсного отбора на право участия в проекте ГЧП, а также отдельные этапы реализации соглашения. Для частного партнера это своего рода гарантия надлежащего исполнения обязательств публичным партнером, так как в противном случае любое существенное нарушение условий соглашения со стороны последнего может стать достоянием общественности.
Принцип взаимной ответственности означает, что стороны самостоятельно определяют лицо, ответственное за вероятное наступление тех или иных неблагоприятных последствий, сохраняя при этом баланс интересов, чтобы ни один из партнеров не был излишне обременен. По общему правилу стороны соглашения о ГЧП несут ответственность в случае наличия вины, выраженной в форме умысла или неосторожности, если не докажут свою невиновность, и к правоотношениям сторон применяются положения главы 25 ГК РФ.
Как указывает А.В. Белицкая, принцип справедливого распределения рисков предполагает передачу рисков тому из партнеров, кто успешнее с ними справится. Как правило, публичный партнер берет на себя политические, валютные и другие неконтролируемые риски, а частный – коммерческие, технологические и пр. [5, с. 26]. Последствием неправильного распределения рисков может стать повышение затрат на исполнение условий соглашения, что неминуемо приведет к спору между контрагентами и вероятным судебным разбирательствам.
Возмездность соглашения о ГЧП выражается в обязанности публичного партнера возместить привлеченному им в проект частному контрагенту инвестиции и компенсировать его убытки в случае досрочного расторжения договорных отношений [1, с. 17]. Инвестор рассчитывает на получение прибыли, которая может быть выражена в разных формах (периодических выплатах, взимания платы с конечных потребителей и других).
Принцип невмешательства обуславливает самостоятельное принятие инвестором административных, хозяйственных и управленческих решений в процессе реализации соглашения о ГЧП [2, с. 32]. Речь идет о том, что публичный партнер не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность частного, сохраняя при этом возможность контролировать ход реализации проекта и качество выполняемых работ.
Таким образом, возникающие в ходе реализации проекта ГЧП партнерские правоотношения носят преимущественно гражданско-правовой характер. Поэтому очевидно, что к ним применимы общие принципы и начала гражданского права. Стороны соглашения равно-
правны, свободно распоряжаются своими правами и выбирают модель поведения в пределах, предусмотренных законом. Такого же мнения придерживаются некоторые отечественные исследователи [7, с. 60–61].
Третьим сущностным признаком рассматриваемой договорной конструкции является его предмет, который воплощается в конкретно определенных действиях сторон (основных обязательствах). Как правило, частный партнер обязуется построить, реконструировать, а также обеспечить эксплуатацию и (или) техническое обслуживание объекта соглашения. Более того, он частично либо полностью финансирует проведение указанных работ. Публичный партнер, в свою очередь, обязуется предоставить частному объект соглашения во владение и пользование, в некоторых случаях – обеспечить его финансирование и передачу прав на него по исполнении соглашения инвестором.
Комбинация этих обязательств варьируется в зависимости от потребностей конкретного проекта. Тем самым СГЧП включает в себя элементы разных гражданско-правовых договорных конструкций. Поэтому к нему применимы нормы гражданского законодательства, в частности, положения об аренде и купле-продаже недвижимости, о строительном подряде, возмездном оказании услуг, инвестиционном договоре и других сделок.
Возникающие между партнерами инвестиционные отношения при этом играют особую роль, так как вопрос финансирования проекта является ключевым. В соответствии с положениями ФЗ “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений” под такой деятельностью, понимается вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. При этом объектами капитальных вложений являются различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого имущества, находящиеся, в том числе, в государственной и муниципальной собственности. Закон устанавливает, что отношения между субъектами инвестиционной деятельности осуществляются на основе договора в соответствии с ГК РФ [29].
Таким образом, соглашение о государственно-частном партнерстве регламентировано преимущественно нормами гражданского права, а его частноправовая природа подтверждается следующими обстоятельствами. Во-первых, волеизъявление партнеров, прежде всего, направлено на удовлетворение своих частных интересов как субъектов гражданского права (для инвестора – извлечение прибыли, для публичного партнера – реализация правомочий собственника объекта соглашения). Во-вторых, принципы партнерских отношений вытекают из основных начал гражданского права (диспозитивности, равенства сторон, свободы договора и других). В-третьих, составной частью соглашения о ГЧП преимущественно являются гражданско-правовые договорные конструкции, такие как подряд, аренда, купля-продажа, возмездное оказание услуг, инвестирование и прочие.
Список литературы Правовая природа соглашения о государственно-частном партнерстве
- Аблаев И.М. Основные принципы государственно-частного партнерства в условиях модернизации российской экономики/Экономические науки, 2013. № 2 (99). С. 17-20.
- Абдрахманов А.И. Государственно-частное партнерство как актуальный механизм посткризисного развития России/Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2011. Т.1. № 3. С. 30-36.
- EDN: NNGEML
- Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М.: Юрид. лит., 1989.
- EDN: RKCLEF
- Батрова Т.А., Антропцева И.О., Воробьев Н.И., Шапкина Е.А., Пушкин А.В., Артемьев Е.В., Рузанов И.В., Канделаки Г.Г., Богатырева Н.В., Котухов С.А. Комментарий к Федеральному закону от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (постатейный). СПС Консультант Плюс. 2016.
- Белицкая А.В. Комментарий к Федеральному закону от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". М.: Юстицинформ, 2016.
- EDN: YVIKEN