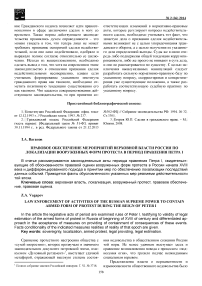Правовое обеспечение мероприятий верховной власти России по локализации вооруженных форм протеста в период правления Петра I
Автор: Вагапов З.А.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 2 (36), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются законодательные акты периода правления Петра I, свидетельствующие об обоснованности правовой оценки вооруженных форм протеста в России начала XVIII века и дифференцированного подхода в принятии мер по обеспечению локализации последствий данных событий. Приводятся факты обусловленности указанных мер реалиями действительности той эпохи.
Локализация, вооруженный протест, правовое обеспечение, правовая оценка
Короткий адрес: https://sciup.org/142232511
IDR: 142232511
Текст научной статьи Правовое обеспечение мероприятий верховной власти России по локализации вооруженных форм протеста в период правления Петра I
Сравнение протестного настроения общества с «сухой хворостию», которое прозвучало в значимом законодательном документе петровской эпохи, именуемом «Духовный регламент»1, выступает удачной метафорой, отражающей высокую степень состоя-
-
1 Полное собрание законов Российской империи. Т. VI. № 3718.
ния недовольства в общественном сознании России той поры. Не менее удачным выступает здесь и сравнение возникновения повода с процессом «поднесения огня», что грозило подчас неожиданным социальным взрывом.
Представление власти о перманентности и взрывоопасности общественного недовольства было сформировано опытом предшествующего «бунташ-ного века», в сопоставлении с которым ни одно из событий вооруженного протеста в России XVIII века не представляет собой принципиально нового явления. И даже пресловутая пугачевская самоидентификация с личностью царя не является «остроумной находкой». Примерно то же, но несколько в иной плоскости «проделывал» еще сто лет тому назад до него (1670-1671) его земляк по станице С. Разин, когда утверждал, что в их рядах находится царевич Алексей Алексеевич (в действительности скончавшийся в Москве 17 января 1670 году) и патриарх Никон (в то время находившийся в ссылке).
Приходится признать, что персональными действиями представителей власти, участвующих в пресечении активных выступлений, часто дискредитировалась законность позиции российского государства начала XVIII века в отношении государственных преступлений. Тем самым значительно затенялось значение Соборного уложения и других законодательных актов, в рамках которых осуществлялись все действия по пресечению «бунтов».
Другими словами, наличие законности «опровергалось» в данном отношении его исполнением, которое могло осуществляться в виде недопустимой вольности, явно нигилизирующей силу закона. Неудовлетворенность Петра I законодательной базой в отношении преступных деяний против государства проявляется уже в том, что он, поручая Сенату составить проект Уложения о наказаниях, требовал разделения преступлений на государственные и партикулярные2. Тем самым он стремился обратить внимание на особые составы государственных преступлений.
Очевидно, что Петра I не устраивала недостаточная четкость формулировок Соборного Уложения, и он прилагал серьезные усилия в создании соответствующей законодательной основы.
По мнению В.И. Веретенникова, правовыми нормами рассмотрения дел о государственных преступлениях в петровскую эпоху выступала вторая глава Уложения и параграфы Воинских Артикулов3. Петровский Артикул увеличил виды наказаний и расширил применение смертной казни за государственные преступления. Так, самостоятельно и в сочетании с другими видами наказаний она упоминается в 101 артикуле из 209, составляющих этот до-кумент4. Абсолютизация теории классового противостояния, вынуждая находить зачатки данного
-
2 См.: Воскресенский Н.А. Законодательные акты Петра I. М,-Л., 1945. С.129-130.
-
3 Веретенников В.И. История Тайной канцелярии петровского времени. Харьков, 1910. С.187.
-
4 Нигматуллин Р.В. Институт смертной казни в уголовном праве России XIX века. - Уфа: Изд-ние Башкирск. ун-та, 1997. С.11.
идеологического явления и в истории России XVIII века, затеняла собой феномен заметной агрессивности, свойственной сознанию общества в целом в данную эпоху.
При этом количество убийств, сопровождающих каждое событие социальных «сумятиц» этой поры определялось высочайшей степенью жестокости. А это всегда давало возможность «обвинения» участников «по усмотрению», в рамках политических устремлений. Так, совершенно не сложно «предъявить обвинения» сестре Петра I с ее окружением в том, что они своими не только не законными, но, главным образом, криминальными действиями в борьбе за власть, спровоцировали стрелецкие бунты.
При этом также легко подпадают в статус обвиняемых и сами стрельцы, не только нарушающие закон, но и действующие в рамках поведения бандитского «сброда», когда «неистово вторгались в Божьи храмы при царском доме, в самые алтари, окровавленными руками осязали св. престолы и копьями шарили под жертвенниками»5. Поражает преступная изощренность действий астраханского воеводы Ржевского, спровоцировавшего вооруженное выступление, однако и само восстание началось «в пьяном угаре»: «пируя на свадьбах, стрельцы и другие люди напились пьяны»6. Пожалуй, этим объясняется нелепость убийства караула из нескольких человек, которых, в силу численного превосходства, можно было просто разоружить.
Жульничество налогосборщиков и, в принципе, бандитский карательный рейд по башкирским селениям имели место быть, но и убийства и разорения восставшими башкирами совершенно невинных гражданских людей, не является исторической «выдумкой». Вне идеологических стандартов становится очевидным, что события российских бунтов, включая и XVIII столетие, несут в себе проявления ярких особенностей криминального мышления, которые нашли освещение в современной юридической психологии.
Необузданная агрессия, постоянно ищущая «благовидного» повода для выплеска, изощренные формы проявления инстинкта самосохранения, во имя достижения которого допускаются любые жертвы и предательства, виктимизация окружающих для удовлетворения собственных интересов -вот те основные признаки, которые усматриваются в поведении участников активных общественных волнений в России прошлых веков. «Все это нарастало на тот особый склад души, который можно охарактеризовать как недисциплинированность, как
-
5 Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Тт. IIV. СПб., 1858-1863. Т. IV. С.122.
-
0 Там же.
славянский индивидуализм, как славянскую тягу к анархии, как естественную темпераментность», -писал И.А. Ильин .
Критическая степень агрессивных начал в сознании народа не позволяла верховной власти России в эпоху Петра I ограничиваться лишь силовым подавлением возникающих активных и вооруженных волнений. Для локализации данных событий до безопасного государству уровня требовались серьезные регулятивные меры, причем реализуемые волей верховной власти.
Так как местная власть, заметно отстраняющаяся от интересов государственности, выступала носительницей той же ментальности, которая была присуща всему обществу. И слова В.О. Ключевского о том, что система местного управления оказалась не в состоянии ни предупредить восстание, ни противостоять ему8, высказанные относительно пугачевских событий, выступают характеристикой и петровской администрации на местах.
Устоявшаяся идеологическая схема «восстания против самодержавия» сформировала прочное представление о предельной схожести событий вооруженных выступлений в России начала XVIII века и, что очень существенно, о примитивной однотипности действий верховной власти по пресечению этих событий.
Однако законодательная реальность этой эпохи свидетельствует о том, что власть видела основания для дифференцированного реагирования на каждое проявление протеста в отдельности, при всей схожести форм силового пресечения и последующих следственно-розыскных мероприятий. Различия указанных событий между собой очерчиваются, в первую очередь, вынесением правового квалифици-ровiана царской властью известных фактов вооруженного протеста.
При всей «размытости» терминологии правовой оценки отчетливо просматривается акт квалифицирована, что несет в себе обширную информацию о степени опасности для государства каждого из этих событий в отдельности. Деяния стрельцов в открытом оповещении населения, названном «Обнародование следственнаго дела, - по Стрелецкому бунту и 06 учинении казни главным преступникам», квалифицируются чрезвычайно тяжкими преступлениями, как-то: «воры и изменники, крестопреступники и бунтовщики»9.
При этом официальное определение выступления башкир, которое с точки зрения советской историографии объединяло башкирский этнос и представляло для власти серьезную опасность, неожи-
-
7 Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948-1954 гг. М., 1992. С.213.
-
8 Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. T.V. Курс русской истории. М., 1989. С. 101.
-
9 ПСЗРИ. Т. III. № 1648.
данно квалифицируется лишь «противностями» и «непослушанием»1". Самые суровые правовые характеристики башкирских событий представлены, как: «...всякие пакости чинят», «Великому Государю учинили многую измену»11. Волнения, обозначенные в историографии «Астраханским восстанием», царская власть склонна рассматривать «возмущением Астраханским». При этом обвинением в преступлении против государства очерчивается только группа лиц, определяемых «Астраханскими бунтовщиками»12.
События, связанные с персоной Кондратия Булавина, царская власть, видимо, основываясь на реальные и очевидные факты того времени, также никак не увязывает ни с донским казачеством, ни с широкими слоями населения, ограничиваясь правовым определением «Кондрашка Булавин с его единомышленниками», деяния которых безоговорочно были определены в категорию «бунта»ь .
Однако именно выступление Булавина, как и восстание Пугачева, вынудило верховную власть провести мероприятия, очень схожие с официальным объявлением чрезвычайного положения.
В 1708 г. именным указом «О походе Московских чинов людям, городовым Дворянам и отставным против бунтовщиков Кондрашки Булавина с его единомышленниками...»14 был объявлен сбор ополчения. Указ царя о сборе в ополчения в правовой традиции России издавна увязывался в сознании общества с объявлением о чрезвычайности ситуации.
К слову сказать, восстание Пугачева привело верховную власть к созданию комиссии при Сенате, призванную заниматься данным «бунтом», что также в рамках правой реальности эпохи соответствовало объявлению чрезвычайного положения.
Пристальное внимание государственного аппарата к действиям Булавина продиктовано ярко выраженной позицией власти, которая отражена в одном из самых значимых документов того времени -«Грамоте Гетману Скоропадскому и всему Малороссийскому народу. - Об измене Запорожских ка-заков»15. Читаем: «Тако ж и в кратком времени вора и бунтовщика Донскаго казака Булавина, держав они Запорожцы у себя на кошу долгое время, отпустили на Дон, придав ему от себя с 3000 казаков, который тамо с ними Запорожцы, учинил многия смятения и бунты; но с помощию Божиею, от войск Наших поражен и восприял по делам своим возмездие купно с единомышленники своими». В силу информативной насыщенности данный законода-
-
10 ПСЗРИ. Т. VI. № 3566. " 1 ПСЗРИ. Т. IV. №2291. 12 ПСЗРИ. Т. IV. № 2092. 13 ПСЗРИ. Т. IV. №2197. 14 ПСЗРИ. Т. IV. №2197. 15 ПСЗРИ. Т. IV. № 2233.
тельный акт требует к себе более пристального внимания. Причем для полного осмысления позиции царской власти необходимо, на наш взгляд, обратить внимание на актуализацию в содержании «Грамоты» нескольких моментов, представленных во взаимосвязи.
Во-первых, следует указать на приведенный в документе факт об осведомленности правительства о крайней оппозиционности запорожского казачества и о сознательной отсрочке мер пресечения, продиктованной политическим соображениями. Читаем: «И хотя они Запорожцы, яко бунтовщики и пре-слушники Наших указов, уже давно подлежали Нашему гневу и достойны были казни и разорения, однако ж Мы, Великий Государь, то все долготерпеливо сносили, чая их обращения и за вины их заслуги». Во-вторых, нужно обратить внимание на отраженное в документе признание о наличии давней осведомленности царской властью в намерениях Гетмана Мазепы, которые незатейливым слогом были представлены, как «...издавние умышления, весь народ Малороссийский отдать Шведам и под иго Польское, Нам Великому Государю изменяя».
В-третьих, необходимо увидеть, что при описании примеров неповиновения запорожского казачества не только просматриваются указания на тесную взаимосвязь этих случаев с позицией администрации данного региона, но и акцентируется внимание на присутствие в данных событиях осознанной диверсионной направленности. Читаем: «... Своевольные Запорожцы, . . никогда не оставляя злобнаго своего умышления, чинили то лукавно, и искали всегда ко исполнению того своего зломыш-ления времени, яко воры и разбойники, не хотя никогда видеть земли Государств Наших, паче же Малороссийской край, в мирном покое и тишине.
А когда усмотрели они Нас Великаго Государя в великих военных с неприятелем Нашим Шведом действиях, по учинении тридесятилетняго мира с Салтановым Величеством Турским, то преслушав и уничтожа многие Наши посланные к ним на кош жестоко претимые указы, чинили соседственныя ссоры и подданных Турских и Татарских разбивали и стада многия отгоняли и людей побивали и в полон брали, також и купцов Греков с товары, в Государства Наши едучих и назад возвращающихся, побивали и товары их грабили; а то все чинили они злоумышленно, дабы тем подать Порте явной вид к нарушению мирных с Нами договоров, и знатно по наущению изменника и богоотступника Мазепы».
Очевидно, верховная власть усмотрела в событиях, связанных с Булавиным, акт целенаправленного провоцирования беспорядков, не только выступающим для очагов протестного настроения детонатором неповиновения, но и привнесенным из-за пределов России.
Следует отметить, что факт причастности определенных сил со стороны событиям протеста той поры, судя по обыденному характеру обсуждений данного вопроса, выступал для верховной власти обычным явлением. Так, к примеру, Ф.Ю. Рамода-новский, донося царю о результатах следственнорозыскных мероприятий по Астраханскому делу, писал: «...О письмах к ним, для возмущения, с Москвы от кого или из иных государств было ль, не сознаются»16.
Алгоритм законодательных мероприятий по пресечению вооруженных протестных движений первых десятилетий российской истории XVIII столетия, подтверждает обозначенную выше позицию царской власти.
Обращает на себя внимание тот факт, что в рамках этих лет мы не находим ни одного открытого законодательно-увещевательного обращения «Царского Величества» к башкирскому народу в связи с событиями «неповиновения», что заметно не соответствует сложившимся политико-правовым традициям.
Не наблюдаем открытого правового интерпретирования властью астраханских волнений, которое, опять же в рамках традиций, неминуемо должно было бы последовать с целью формирования соответствующего общественного отношения. Не видим публично выраженных тенденций к порицанию донского казачьего войска, что непременно должно было бы последовать в ракурсе происходящих событий.
При этом царское правительство предпринимает комплекс мер, нашедших отражение в законодательной реальности и явно имеющих многовекторный характер. Так, с одной стороны, царская власть находит необходимым получить и получает очередное подтверждение калмыцкого хана Аюки «в верном подданстве Российскому Государю».
Данный акт «подтверждения подданства» закрепляется 30 сентября 1708 г. «Договорными статьями...», в которых привлекает внимание вторая статья, касающаяся закрепления соподчинения «Аюки Хана Казанскому и Астраханскому Губернатору Петру Апраксину», что требовалось в целях достижения оперативности. В ней говорится: «По той 2 статье он Аюка Хан говорил и обещался по вере своей клятвенно: когда какие неприятели к Астрахани и к Тереку или к Казани и к иным Низовым городам придут, а он Ближний Министр и Губернатор Петр Матвеевич, будет к нему Хану писать, и он ратных своих людей с детьми и со внучаты и с другими тамошными посылать и Великому Государю служить будет верно, заодно с Русскими людьми и
-
10 Цит. по: Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т.т. I-IV. СПб., 1858-1863. Т. IV. С.507.
никогда верной своей службы к Великому Государю не оставит»17. Очевидно, что данная мера была продиктована необходимостью локализовать распространение волнений на восток.
Следует подчеркнуть, что отражение «Договорных статей...» в законодательной реальности выступало, по своей сути, профилактическим выражением намерений государства.
С другой стороны, в законодательстве этих лет наличествует ряд актов, свидетельствующих о пристальном внимании царской власти к западным пределам социально-неблагополучного тогда региона. Правда, суть взаимосвязи данных правовых установлений с практикой пресечения развернувшихся волнений, во многом затушевывается исторически известным «поступком» Гетмана Мазепы, «побег» которого существенно повысил драматизм ситуации, актуализировав срочность принятия мер.
Очевидный факт спешности реагирования оставляет впечатление об обусловленности данных мероприятий только поступком Мазепы и во многом затеняет истинные детерминанты, продиктованные склонностью правительства рассматривать западную точку черноморско-каспийского региона, а именно, Запорожскую Сечь, основным источником распространения массового неповиновения государству. Комплекс обозначенных мер начинается с именного указа от 31 октября 1708 г. имеющего прямое отношение к восстановлению административной подчиненности Малороссии российскому государству, осуществление которого требовало лояльности влиятельных сил в среде данных подданных. В качестве таких сил царской властью были выбраны «Почепские казаки», которым и был адресован указ - «О продолжении им верной службы Российскому Государю и об освобождении их от налогов, вымышленных изменником Мазепою»18.
В рамках мер по восстановлению административного составляющего подданства буквально на следующий день появляется в свет и «Грамота, данная Запорожскому войску - на избрание новаго Гетмана на место изменившаго России Гетмана Мазепы; с обнадеживанием подтвердить оному войску прежния права его и привилегии»19. Административная платформа «подданства» «Малороссийского края» российскому государству была восстановлена избранием «вольным гласом» Ивана Скоропадского новым Гетманом.
В свете последующих шагов, которые теперь уже касались формирования необходимого общественного мнения у населения Малороссийского края, в череде ряда указов, выделяются, как минимум, два законодательных акта - «Грамота Гетману Ивану
17 ПСЗРИ. Т. IV. № 2207.
18 ПСЗРИ. Т. IV. № 2209.
19 ПСЗРИ. Т. IV. №2210.
Скоропадскому. - О бежавших с изменником Мазепою Малороссийских старшинах и всякаго звания людях, о прощении их и возвращении им имущества и чинов, если оставив Шведов, прибегнут с разская-нием к Российскому Государю и о наказании их в противном случае смертию»2", и «Манифест. - О действиях изменника Гетмана Мазепы ко вреду Рос- 21 сии» .
Объектом завершающего этапа действий царской власти по пресечению бурной тенденции неповиновения государству выступала Запорожская Сечь. Как известно, данное сообщество совершенно разнообразных людей, выступающее, по мнению царского правительства, основным источником и распространителем вооруженных форм неповиновения на территории России, было ликвидировано войсками полковника Яковлева, совместно с «Чигиринским Полковником Галаганом» с командой казаков. Данное событие было сопровождено «Грамотой Гетману Скоропадскому и всему Малороссийскому народу. - Об измене Запорожских казаков»22, в которой в качестве основных причин, обусловивших силовые меры, обозначается потенциально-опасная антироссийская направленность данного социума, в силу идеологии крайнего и воинствующего «несогласия».
Таким образом, формирование правовой основы, регламентирующей мероприятия государственной власти по локализации вооруженных форм протеста в эпоху Петра I, обуславливалось следующими моментами объективной реальности.
Во-первых, присущая сознанию людей агрессивность сопровождала любые конфликты в обществе тяжкими преступлениями и массовостью, приближая их к преступлениям против государства.
В силу этого требовалось более четкое разделение подобных преступлений на «государственные» и «партикулярные». Среди основных правовых критериев квалифицирования начинает выделяться «голый умысел». Во-вторых, вооруженные выступления против российской власти той поры явно отличались по степени опасности для государства. Очевидность данного факта для верховной власти отразилась в формулировках квалифицирования этих преступлений.
В-третьих, степень опасности данных преступлений определялась для власти предельно выраженными антигосударственными замыслами, которые могли формироваться далеко за пределами эпицентра тех или иных событий вооруженного протеста. Исходя из этого, государственная администрация Петра I, в рамках мероприятий по локализации вооруженных форм протеста той поры, сосредотачива-
20 ПСЗРИ. Т. IV. №2211.
21 ПСЗРИ. Т. IV. № 2224.
22 ПСЗРИ. Т. IV. №2233.

ет свое внимание на западных окраинах, а именно, в сударственных настроении и действии. Запорожской Сечи как источнике крайних антиго-
Список литературы Правовое обеспечение мероприятий верховной власти России по локализации вооруженных форм протеста в период правления Петра I
- Воскресенский Н.А. Законодательные акты Петра I. М.-Л., 1945.
- Веретенников В.И. История Тайной канцелярии петровского времени. Харьков, 1910.
- Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948-1954 г.г. М., 1992.
- Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Т. IV. Курс русской истории. М., 1989.
- Нигматуллин Р.В. Институт смертной казни в уголовном праве России XIX века. - Уфа: Изд-ние Башкирск. ун-та, 1997.
- EDN: TGLLIT
- Полное собрание законов Российской империи. Т. III. 1689-1699; Т. IV. 1700-1712; Т. VI. 1720-1722. СПб., 1830.
- Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т.т. I-IV. СПб., 1858-1863.