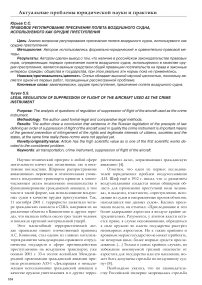Правовое регулирование пресечения полета воздушного судна, используемого как орудие преступления
Автор: Юрьев Сергей Сергеевич
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы юридической науки и практики
Статья в выпуске: 6 (25), 2016 года.
Бесплатный доступ
Цель: Анализ вопросов регулирования пресечения полета воздушного судна, используемого как орудие преступления. Методология: Автором использовались формально-юридический и сравнительно-правовой методы. Результаты: Автором сделан вывод о том, что наличие в российском законодательстве правовых норм, определяющих порядок пресечения полета воздушного судна, используемого в качестве орудия преступления, является важным средством общей превенции посягательств на права и законные интересы граждан, общества и государства, при этом реально эти нормы пока не применялись. Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку является одной из первых работ, посвященных рассмотренной проблеме.
Авиаперевозки, орудие преступления, пресечение полета воздушного судна
Короткий адрес: https://sciup.org/140224977
IDR: 140224977
Текст научной статьи Правовое регулирование пресечения полета воздушного судна, используемого как орудие преступления
Научно-технический прогресс в любой сфере деятельности влечет как позитивные, так и негативные последствия. Широкое распространение авиационных перевозок и относительная уязвимость воздушного транспорта привели к многочисленным актам незаконного вмешательства в функционирование гражданской авиации, в том числе в такой форме, как использование воздушных судов в качестве орудия преступления. Так, 11 сентября 2001 г. террористы захватили четыре гражданских самолета в США, направив их на различные объекты в Вашингтоне и других городах, что вызвало гибель около трех тысяч человек и повлекло крупный материальный ущерб.
Этот масштабный террористический акт, как правильно пишет отечественный правовед А.С. Конюхова, стал одним из главных катализаторов развития международно-правового сотрудничества государств в сфере противодействия преступлениям на воздушном транспорте; уже осенью 2001 г. 33-я сессия ассамблеи Международной организации гражданской авиации приняла резолюцию А33-1 «Декларация о ненадлежащем использовании гражданской авиации в качестве оружия уничтожения и о других терро- ристических актах, затрагивающих гражданскую авиацию» [4].
Отметим, что один из первых исследователей юридических проблем воздухоплавания Л.И. Шиф ещё в 1912 г. писал, что «с развитием воздухоплавания создастся новая обширная область для проявления преступной воли человека», и выделял, в частности, «преступления, исходящие из судов и направленные против объектов, находящихся вне данных судов». Касаясь пресечения полета, он отмечал: «Преследование и тем более задержание аэростата в воздухе крайне затруднительно. Разумеется, у агентов власти остается право, в случае неповиновения, обращаться к силе оружия: во власти государства расстрел непокорных аэростатов. Но к таким крайним и кровавым мерам государство не может прибегать, не исчерпав иных, более мирных средств преследования. (…) Только в самых крайних случаях, во избежание неминуемой грозной опасности от аэростата для государства или его населения, может быть допущена стрельба по воздушному судну» [8].
Необходимо указать, что по законодательству Российской империи запрещалась стрельба по пересекающим государственную границу воздушным шарам [6].
В истории СССР имеется несколько случаев уничтожения иностранных гражданских воздушных судов. Так, 14 июня 1940 г. в нейтральном воздушном пространстве сбит финский самолет Ю-52 «Калева» с девятью пассажирами на борту, не подчинившийся приказам советского истребителя вернуться на аэродром вылета [7]. Японский публицист Акио Такахаси приводит факт, когда в ночь на 20 апреля 1978 года южнокорейский самолет «Боинг-707» совершил влет в воздушное пространство СССР в районе Мурманска, был признан нарушителем и силой принужден к посадке на территории СССР [8]. Существенное уточнение в эту историю вносит И.Г. Дроговоз: упомянутый «Боинг-707» был перехвачен и обстрелян истребителями Су-15, после полученных повреждений совершил посадку на льду озера, при этом погибли два пассажира [3].
Самый печально известный эпизод произошел в 1983 году, когда в ночь на 1 сентября самолет южнокорейской авиакомпании «Боинг-747», следовавший рейсом 007 Нью-Йорк–Анкоридж– Сеул, нарушил правила международных полетов, ушел в сторону от международной трассы R-20 более чем на 500 километров, не отвечал на вызовы диспетчеров и сигналы самолета-перехватчика и после длительного полета в воздушном пространстве СССР в конечном итоге был сбит советским истребителем. Еще 269 человек стали жертвами «холодной войны». Инцидент 1 сентября 1983 года не только ударил по престижу нашей страны, но и привел к изменению Конвенции о международной гражданской авиации, в которую была включена статья 3bis о неприменении оружия против гражданских воздушных судов [1].
Подчеркнем, что нет какой-либо взаимосвязи объективной стороны деяния, связанной с использованием воздушного судна в качестве орудия преступления, с субъективной стороной. Мотивы, цели и отношение к содеянному могут быть самыми разными. В частности, имеются факты, когда пилоты гражданских самолетов преднамеренно их уничтожали. Таковыми были, например, катастрофы в Марокко (1994 г.) и Сингапуре (1997 г.); в результате действий пилота «Боинга-767-300» египетской авиакомпании, умышленно направившего самолет в Атлантический океан 21 октября 1999 г., погибло 202 пассажира и 15 членов экипажа [7].
Подобные инциденты вызвали необходимость правового регулирования действий органов государственной власти, касающихся пресечения полета воздушного судна, захваченного преступниками.
В Российской Федерации эту проблему разрешил (с формально-юридической стороны) Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», статьей 7 («Пресечение террористических актов в воздушной среде») которого установлено:
«1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях устранения угрозы террористического акта в воздушной среде или в целях пресечения такого террористического акта.
-
2. В случае, если воздушное судно не реагирует на радиокоманды наземных пунктов управления прекратить нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации и (или) на радиокоманды и визуальные сигналы поднятых на его перехват летательных аппаратов Вооруженных Сил Российской Федерации либо отказывается подчиниться радиокомандам и визуальным сигналам без объяснения причин, Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику для пресечения полета указанного воздушного судна путем принуждения его к посадке. Если воздушное судно не подчиняется требованиям о посадке, и существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, оружие и боевая техника применяются для пресечения полета указанного воздушного судна путем его уничтожения.
-
3. В случае, если имеется достоверная информация о возможном использовании воздушного судна для совершения террористического акта или о захвате воздушного судна, и при этом были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его посадки, и существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику для пресечения полета указанного воздушного судна путем его уничтожения».
Статья 7 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» устанавливает юридические основы для уничтожения воздушных судов при наличии указанных в статье обстоятельств. Закон вводит словосочетание «воздушная среда», обычно применяемое в экологическом праве; акты российского воздушного законодательства закрепляют термин «воз- душное пространство». Понятие воздушного пространства как составной части государственной территории, на которую распространяется суверенитет государства, применяется в ст. 67 Конституции Российской Федерации и ст. 1 Конвенции о международной гражданской авиации (Чикаго, 7 декабря 1944 года).
Положение о применении оружия и боевой техники Вооруженными Силами Российской Федерации для устранения угрозы террористического акта в воздушной среде или пресечения такого террористического акта утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2007 г. № 352 «О мерах по реализации Федерального закона «О противодействии терроризму». Согласно пункту 2 названного Положения оружие и боевая техника Вооруженных Сил Российской Федерации применяются:
-
а) в случае нарушения правил использования воздушного пространства Российской Федерации:
-
– если воздушное судно не реагирует на радиокоманды наземных пунктов управления прекратить нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации и (или) на радиокоманды и визуальные сигналы поднятых на его перехват летательных аппаратов Вооруженных Сил Российской Федерации либо отказывается подчиниться радиокомандам и визуальным сигналам без объяснения причин – для пресечения полета воздушного судна путем принуждения к посадке;
– если воздушное судно не подчиняется требованиям о посадке, и существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы – для пресечения полета воздушного судна путем уничтожения;
-
б) в случае наличия достоверной информации о возможном использовании воздушного судна для совершения террористического акта или о захвате воздушного судна и возникновения реальной опасности гибели людей либо наступления экологической катастрофы (при условии, что были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его посадки) – для пресечения полета воздушного судна путем его уничтожения.
По пункту 6 Положения при применении в отношении воздушного судна оружия и боевой техники на поражение:
-
а) экипаж летательного аппарата Вооруженных Сил Российской Федерации перед применением оружия на поражение предупреждает об этом экипаж воздушного судна путем подачи радиокоманд и визуальных сигналов, а имеющий
стрелково-пушечное вооружение (при наличии условий) – путем ведения предупредительного огня. Решение об открытии предупредительного огня принимает командир экипажа летательного аппарата Вооруженных Сил Российской Федерации, о чем немедленно докладывает на командный пункт;
-
б) при отсутствии возможности применения летательных аппаратов Вооруженных Сил Российской Федерации применяется оружие наземных (корабельных) средств противовоздушной обороны. Предупреждение о применении оружия в отношении воздушного судна осуществляется с использованием средств радиосвязи;
-
в) применение оружия и боевой техники прекращается при выполнении экипажем воздушного судна подаваемых ему радиокоманд, визуальных сигналов и (или) команд, подаваемых путем ведения летательными аппаратами Вооруженных Сил Российской Федерации предупредительного огня;
-
г) оружие и боевая техника могут применяться в отношении воздушного судна на поражение без предупреждения, если имеется достоверная информация о возможном использовании воздушного судна для совершения террористического акта или о захвате воздушного судна, и существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы (при условии, что были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его посадки).
Согласно пункту 8 Положения при применении оружия и боевой техники в отношении воздушного судна принимаются необходимые меры:
-
– по обеспечению безопасности полетов при перехвате воздушного судна, по недопущению нарушения летательными аппаратами Вооруженных Сил Российской Федерации воздушного пространства сопредельных государств и попадания средств поражения (ракет, снарядов и т. д.) на территории сопредельных государств;
-
– по исключению поражения других воздушных судов, недопущению гибели людей, находящихся в этом районе, и (или) наступления экологической катастрофы в результате применения оружия и боевой техники.
Существенно, что в силу пп. 7 и 9 Положения достоверность информации о возможном использовании воздушного судна для совершения террористического акта или о захвате воздушного судна определяется должностными лицами в порядке, устанавливаемом Министерством обороны Российской Федерации совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, а порядок принятия решения о применении оружия и боевой техники для целей, предусмотренных названным Положением, и должностные лица, принимающие такое решение, определяются министром обороны Российской Федерации. На наш взгляд, такие акты должны публиковаться (по меньшей мере, в части, касающейся пользователей воздушного пространства) для всеобщего сведения в силу пункта 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации, устанавливающего, что любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
Следует указать, что применение оружия и боевой техники против воздушных судов регулируется также Законом Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации». Статья 35 названного Закона определяет, в частности, что пограничные органы и Вооруженные Силы Российской Федерации, осуществляя защиту государственной границы в пределах приграничной территории, применяют оружие и боевую технику для отражения вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации и предотвращения попыток угона за границу воздушных судов без пассажиров. При этом в абзаце 6 ст. 35 названного Закона устанавливается прямой запрет на применение оружия и боевой техники по воздушным судам с пассажирами.
Эти нормы ст. 35 Закона Российской Федерации «О государственной границе Российской Федерации» противоречат нормам ст. 7 Федерального закона «О противодействии терроризму», что создает правовую неопределенность. В результате этого на практике возможны самые разные ситуации. Об этом свидетельствует и американский опыт; как отметила национальная комиссия США при анализе событий 11 сентября 2001 г., военные пребывали «в большом смущении» от приказа сбивать самолеты, и летчики должны были действовать, исходя из обстановки [2].
Отметим, что правовая неопределенность создает юридические риски для лиц, применяющих соответствующие нормы, в том числе в сфере использования воздушного пространства. Например, длительное время в отношении четырех авиадиспетчеров расследовалось уголовное дело, возбужденное по информации о будто бы нарушении правил международных полетов при выполнении 12 июля 2005 г. авиакомпанией «Вьетнамские авиалинии» рейса ХЖН-525 по маршруту Ханой–Домодедово: обвиняемые не выполнили указание военного сектора единой системы организации воздушного движения о пресечении полета. Однако суд установил, что в адрес обвиняемых поступали противоречивые, несвоевременные, не соответствующие требованиям фразеологии и практически неисполнимые команды, и оправдал авиадиспетчеров за отсутствием в их действиях состава преступления [10].
Принятие норм, касающихся уничтожения воздушных судов с пассажирами на борту, можно оценить как акт крайней необходимости, направленный на борьбу с терроризмом. Совершенствование правовых инструментов в противодействии этому злу – общая задача мирового сообщества. Касаясь новых угроз авиационной безопасности, сотрудники ООН Ж. Лабордэ и А. Тресо отмечали: «Прочные юридические рамки позволяют гарантировать, что террористы никогда не будут иметь безопасного неба или ресурсов и средств для совершения террористических актов. Такие законодательные решения, наряду с усилиями по приданию государствам способности предотвращать и противостоять актам незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации, представляют собой важные элементы любой усовершенствованной антитеррористической стратегии» [5].
Таким образом, Российская Федерация в этом вопросе следует международно-правовым подходам и стратегии борьбы с терроризмом как глобальной угрозой. Наличие в российском законодательстве правовых норм, определяющих порядок пресечения полета воздушного судна, используемого в качестве орудие преступления, является важным средством общей превенции посягательств на права и законные интересы граждан, общества и государства. С удовлетворением отметим, что реально эти нормы не применялись – это как раз тот случай, когда отсутствие правоприменительной практики можно только приветствовать.
Список литературы Правовое регулирование пресечения полета воздушного судна, используемого как орудие преступления
- Губарев О.И. Тайны воздушного терроризма. М.: Вече, 2002.
- Доклад национальной комиссии по расследованию террористических атак на США 11 сентября 2001 года: пер. с анг. М.: Институт экономических стратегий, 2004.
- Дроговоз И.Г. Воздушный щит Страны Советов. Мн.: Харвест, 2004.
- Конюхова А.С. Юрисдикция государств в борьбе с посягательствами на безопасность международной аэронавигации: монография/Национальная ассоциация воздушного права. М.: ИТК «Дашков и Ко», 2016.
- Лабордэ Ж.П., Тресо А. Сотрудничество -важный аспект эффективной борьбы с терроризмом//Журнал ИКАО. 2006, № 1. С. 24-25.
- Плеханов А.А., Плеханов А.М. Отдельный корпус пограничной стражи императорской России (1893-1917): Исторический очерк. М.: Граница, 2003. С. 39-40.
- Сто великих авиакатастроф/авт.-сост. И.А. Муромов. М.: Вече, 2004.
- Такахаси Акио. Преступление президента: пер. с японского. М.: АПН, 1984.
- Шиф Л.И. Воздухоплавание и право. СПб.: Воздухоплавание, 1912.
- Юрьев С.С., Чёрная О.О. Деятельность адвоката в условиях юридических рисков//Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2014. № 2. С. 13-19.