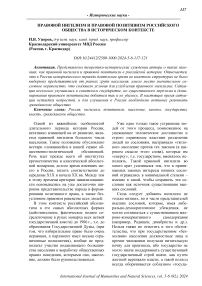Правовой нигилизм и правовой позитивизм российского общества в историческом контексте
Автор: Упоров И.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 5-6 (92), 2024 года.
Бесплатный доступ
Представлены теоретико-исторические суждения автора о таких явлениях, как правовой нигилизм и правовой позитивизм в российской истории. Отмечается, что в России монархического периода длительное время во властных структурах не было выборных представителей от разных групп населения, имело место значительное сословное неравенство, что создавало условия для углубления правового нигилизма. Ситуация несколько улучшилась в советском государстве, но существенного перелома и доминирования правового позитивизма добиться так и не удалось. В настоящее время ситуация остается непростой, и для улучшения в России необходимо активнее развивать гражданское общество.
Россия, нигилизм, позитивизм, население, законы, государство, власть, гражданское общество
Короткий адрес: https://sciup.org/170205326
IDR: 170205326 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-5-6-117-121
Текст научной статьи Правовой нигилизм и правовой позитивизм российского общества в историческом контексте
Одной из важнейших особенностей длительного периода истории России, негативно влияющей на ее развитие, является правовой нигилизм большого числа населения. Такое положение обусловлено исстари сложившейся в нашей стране общественно-политической обстановкой. Речь идет прежде всего об институтах крепостничества и классической абсолютной монархии, долгое время имевших место в России, вплоть соответственно до середины Х1Х и начала ХХ вв. Между тем к этому времени критерии цивилизованности основывались на уже достаточно широком представительстве народа в формировании позитивного права, а также безусловном правовом равенстве всех людей.
В этом контексте российский абсолютизм в его самых абсолютных формах (действительное, фактическое полное сосредоточение в руках монарха всех ветвей государственной власти) до 1906 г., т.е. до образования Государственной Думы, (при том, что избирательное право было очень неравным, а парламент имел весьма ограниченные полномочия), вообще не предполагал участия подавляющего большинства населения в выработке общественных правил поведения, которыми оно, население, должно было руководствоваться.
Уже одно только такое устранение людей от этого процесса, помноженное на унижающее человеческое достоинство и строго охраняемое властями разделение людей по сословиям, настраивало «тягловое» население против тех законов (в широком смысле этого слова), которые им «сверху», т.е. государством, вменялось исполнять. Такой правовой нигилизм во много крат усиливался тем, что в принимаемых законах интересы низших сословий отражались в минимальной степени -именно в такой, чтобы сохранить эти сословия как источник существования высших сословий.
Сюда следует добавить нигилизм не только низших, но и части представителей высших сословий, которые, имея либерально-демократические убеждения, не могли соглашаться с существованием махрово-консервативного самодержавия (например, Радищев, декабристы и др.). Нельзя также не отметить и того обстоятельства, что при государственном «безмолвии» населения должностные лица и прочие чиновники получали питательную почву для произвола, ибо государство не могло иначе поддерживать существующий государственный строй иначе, как путем жесткой вертикали власти, а такой подход всегда оборачивается соблазном «госуда- ревых людей» воспользоваться своим положением в личных целях; отсюда – большие масштабы злоупотреблений (в этой связи следует заметить, что нынешний уровень коррупции в нашей стране также имеет давние корни).
И в целом в монархический период при отсутствии народного представительства в законодательном процессе негативный настрой широких слоев населения к позитивному (государственному) праву был вполне объясним. Соответственно такие понятия, как «законность», «верховенство права» и им подобные не могли проникнуть в психологию российского народа и закрепиться в нем как важнейший аспект позитивистского правового сознания, как это имело место в других странах. Напротив, большинство россиян воспринимали издаваемые государством законы скорее, как нечто направленное против них, чем то, что будет им помогать (в этом смысле наглядным является трудовое право конца Х1Х в.).
Такой правовой нигилизм сопровождал протестное движение. Рассмотрим для примера крестьянское движение Пугачева. Прежде всего напомним, что именно на вторую половину XVII-XVIII вв. приходится апогей в развитии крепостничества, которое, по выражению известного историка государства и права О.И. Чистякова, стало похоже на рабство [1, с. 216]. Между тем ко времени пугачевщины уровень цивилизации уже достиг рубежа, когда за каждым человеком признавались его естественные права, то есть, другими словами говоря, естественное право стало осознаваться, о чем свидетельствуют сочинения английских, голландских, французских мыслителей, а также преобразования буржуазного характера в ряде стран, включая принятие соответствующих актов позитивного права о гарантиях политических прав. Однако в России таких прав долго не было, и напротив, принимались решения, закреплявшие личную зависимость крестьян (характерным в этом отношении были, например, принятые в 1760 и 1765 гг. указы о ссылке крестьян помещиками в Сибирь – «О приеме в Сибирь на поселение от помещиков, дворцовых, синодаль- ных, архиерейских, монастырских, купеческих и государственных крестьян, с зачетом их за рекрут» и «О праве помещиков отдавать неугодных им крестьян в каторжную работу» [2]). И хотя Пугачев вел за собой массы не под флагом борьбы за политические права человека (царь в России должен был остаться, но другой царь -добрый и справедливый), движущей силой, во всяком случае объявляемой Пугачевым и его соратниками народу, было стремление к улучшению жизни простых людей, которые не видели иного способа, кроме как восстания, которое формально являлось государственным преступлением, и Пугачев и многочисленные его соратники были объявлены преступниками, осуждены и многие казнены. С формальной точки зрения к государству претензий быть не должно, поскольку оно обязано было исполнять действующие законы, и соответствен Пугачева и его сподвижников на законном основании можно считать заурядными разбойниками. И преимущественно таковым он, собственно, и представлялся в дореволюционной России. В советский период Пугачев неизменно считался народным героем, его именем названы улицы практически в каждом городе нашей страны, а в Саратовской области есть и город Пугачев. Собственно, и сейчас россияне в большинстве своем склонны считать Пугачева народным заступником. Правда, оценки последних лет в исторической литературе более умеренные, но сам акт того, что Пугачева в разные периоды истории считают сначала преступником, а потом народным героем, свидетельствует о сложном противостоянии правового нигилизма и правового позитивизма.
В дальнейшем, в советском государстве, когда прежнее имперское право было полностью отвергнуто, правовой нигилизм был проявлен в абсолютном значении, а именно в опрокидывании всего социального порядка в стране. Попытки новой советской власти установить новую законность изначально натыкались на два серьезных препятствия. Во-первых, российское население вошло в новую государственность со старой психологией правового нигилизма. Изменить же человеческую психо- логию, а тем более искоренить ее за несколько лет невозможно, и в этом смысле, как нам представляется, не имело большого значения то обстоятельство, что новые предписания, новые социальные нормы исходили не от старой имперской, а от новой советской власти – в любом случае для рядового жителя эти предписания исходили «свыше», а не при его участии. Во-вторых, новое советское право стало формироваться не сразу, а через несколько-летний период «революционной целесообразности».
Указанный подход советской власти был, однако, зыбкой основой для укрепления правового позитивизма, учитывая, что советская власть для достижения провозглашенных целей использовала различные меры, включая массовые репрессии. Некоторое время такое положение не вызывало движений массовых протестов в тех масштабах, как это имело место в период империи. Тем не менее и в СССР протесты имели место. Речь идет, в частности, о демонстрации рабочих Новочеркасска в 1962 г. Недовольство властями имело место и в других регионах, хотя и в более скрытых формах (распространение анонимных листовок с содержанием типа «Долой позорное решение правительства!»), при этом причиной такого недовольства было, с одной стороны, повышение цен на некоторые продукты питания, и прежде всего мяса, а с другой – уже мало скрываемые привилегии партийносоветского аппарата [3, с. 550]. Возникшая стихийно демонстрация в Новочеркасске была пресечена, в том числе было применено огнестрельное оружие, в этом отношении действия государства в принципе не отличаются от расстрела, например, демонстрантов в «кровавое воскресенье» 9 января 1905 г., то есть и имперское государство, и советское государство действовало, исходя из норм позитивного права, которое расходилось с правом естественным.
Следует еще отметить, что воду на мельницу правового нигилизма стала лить советская теория государства и права, одним из важнейших положений которой было постепенное отмирание права (равно как и государства) при коммунизме. Если право будет неизбежно отмирать, то надо ли уделять ему большое внимание?
Такой фон, конечно же, не способствовал развитию советского правового позитивизма. Вместе с тем здесь следует отметить, что для широких кругов советского населения данные теоретические аспекты большой роли не играли, поскольку они не были знакомы с такими тонкостями советской правовой науки.
Что касается народного представительства в формировании правовых норм, то в советском государстве оно имело место – в Верховном Совете СССР и верховных советах союзных республик в качестве законодателей были действительно самые что ни на есть народные представители – колхозники, инженеры, строители, механизаторы, военные, ученые и другие представители социальных групп, избираемые народом. В этом смысле советское государство сделало, несомненно, существенный шаг вперед.
Другое дело, что такое народное представительство страдало, как известно, запредельным формализмом, когда состав депутатов определялся по партийным разнарядкам. Другим фактором, определявшим распространение правового нигилизма в советском государстве, было конституционное положение (ст.6 Конституции СССР 1977 г. [4]) о руководящей и направляющей роли КПСС в советском обществе. Тем самым подспудно проводилась мысль о том, что партийное решение важнее и сильнее правового решения. А в жизни, как известно, было именно так.
Как видно, и в советском государстве было достаточных оснований, хотя и в меньшей мере, чем в империи, для развития правового нигилизма. Он проявлялся, в частности, в так называемом «телефонном праве», «блате», «нужных связях» и других явлениях подобного рода, позволяющих отставлять на задний план правовые нормы, принимаемые представителями самого же населения и которые должны были быть основными, главными, непреложными, но которые таковыми так и не стали.
Возникает вопрос: если в советском государстве также имел место правовой нигилизм, то почему же социальной порядок в советском обществе был достаточно прочным? Сторонники такого прочного социального порядка полагают, что о правовом нигилизме как характеристике общественного правосознания советских людей говорить нет оснований. Однако здесь, как нам представляется, происходит подмена понятий.
По нашему мнению, речь в данном случае идет о прогосударственном (приставка «про» здесь, на наш взгляд, необходима, поскольку, во-первых, она свидетельствует о верховенство государства над обществом, и, во-вторых, понятие «государственный порядок» не должно нести негативной нагрузки), а не о социальном порядке, поскольку действительно стабильные общественные отношения на протяжении нескольких десятилетий советского государства опирались на деятельность и силу государственных структур, которые, как и в период империи, имели жесткую вертикаль. Социальный же порядок предполагает стабильность общественных отношений, основывающуюся на гражданском согласии, которое государство только лишь реализует. Отсюда и имевшая место определенная стабилизация в стране, но и такая стабилизация завершилась распадом советского государства в 1991 г.
Таким образом, правовой нигилизм, порожденный в России отсутствием такого гражданского общества, которое определяло бы правовой позитивизм как домини- рующую тенденцию, негативно влияет на состояние социального порядка. По сути дела, вся история России есть история правового нигилизма применительно к большинству населения страны. Для све- дения этого негативного социального явления к минимуму и заменой его правовым позитивизмом необходимо на разных уровнях повышать уровень правосознания населения. Причем, как представляется, здесь не следует питать иллюзий и думать, что это удастся сделать за относительно короткий период – на это потребуются, очевидно, несколько десятилетий. Начало уже положено новейшим развитием российского государства – в Конституции России провозглашены правовое государство, отказ от партийных и иных идеологических монополий и другие положения, закрепляющие правовой позитивизм. Принимаемые для общества законы принимаются, и уже не формально, как в советский период, представителями всего народа. Вместе с тем на деле проявлений правового нигилизма еще немало. На наш взгляд, необходимо особое внимание обратить на правовое воспитание школьников, более широкое распространение правовой литературы. Свою ответственность в деле строгого следования законам должны взять на себя представители властных, и прежде всего выборных, структур – они должны стать своеобразным локомотивом, который будет продвигать всю страну от правового нигилизма к правовому позитивизму и соответственно от порядка про-государственного к порядку социальному.
Список литературы Правовой нигилизм и правовой позитивизм российского общества в историческом контексте
- История отечественного государства и права / Под ред. О.И. Чистякова. - М., 1996.
- Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 5. - М., 1987.
- История России. ХХ век / Отв. ред. В.П. Дмитриенко. - М., 1998.
- Конституция СССР 1977 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1977. № 41. Ст. 617.