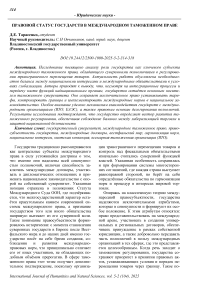Правовой статус государств в международном таможенном праве
Автор: Тарасенко Д.Е.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 5-2 (104), 2025 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено анализу роли государства как ключевого субъекта международного таможенного права, обладающего суверенными полномочиями в регулировании трансграничного перемещения товаров. Актуальность работы обусловлена необходимостью баланса между национальными интересами и международными обязательствами в условиях глобализации. Авторы приходят к выводу, что, несмотря на интеграционные процессы и передачу части функций наднациональным органам, государство остаётся основным носителем таможенного суверенитета. Оно сохраняет исключительное право устанавливать тарифы, контролировать границы и имплементировать международные нормы в национальное законодательство. Особое внимание уделено механизмам взаимодействия государств с международными организациями (ВТО, ЕАЭС), а также правовым основам делегирования полномочий. Результаты исследования подтверждают, что государство определяет вектор развития таможенного регулирования, обеспечивая соблюдение баланса между либерализацией торговли и защитой национальной безопасности.
Государственный суверенитет, международное таможенное право, право-субъектность государства, международные договоры, вестфальский мир, гармонизация норм, национальные интересы, киотская конвенция, всемирная таможенная организация (ВТО)
Короткий адрес: https://sciup.org/170209385
IDR: 170209385 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-5-2-314-318
Текст научной статьи Правовой статус государств в международном таможенном праве
Государства традиционно рассматриваются как центральные субъекты международного права в силу устоявшейся доктрины о том, что именно они наделены всей совокупностью полномочий, включая способность заключать международные договоры, участвовать в дипломатических отношениях и применять национальное законодательство с опорой на собственный суверенитет. Указанная позиция отражена в положениях Статута Международного Суда ООН, где подчёркивается, что межгосударственный характер остаётся краеугольным камнем современной системы международного права, а признание государством того или иного обязательства напрямую вытекает из его суверенной воли. Такое понимание правосубъектности формировалось исторически: с момента становления суверенных государств в Европе после Вестфальского мира и до наших дней именно государство несёт на себе бремя создания, соблюдения и развития международноправовых норм, что принципиально отличает его от иных участников, не обладающих подобным объёмом прерогатив. В сфере таможенного права этот тезис получает дополнительное подтверждение, поскольку организа- ция трансграничного перемещения товаров и контроль над фискальными обязательствами изначально считались суверенной функцией властей. Указанная особенность сохранилась и при формировании системы многосторонних соглашений, где каждая страна выступает равноправной стороной, но берёт на себя определённые обязательства по гармонизации норм и процедур в интересах мировой торговли.
Опираясь на классическую теорию международной правосубъектности, государства наделяются исключительными атрибутами, которые в совокупности и формируют их особое положение. К этим атрибутам относятся: право представительствовать на международной арене, участвовать в создании универсальных и региональных договоров, обеспечивать принуждение в рамках собственной юрисдикции, а также добровольно передавать часть полномочий в пользу международных организаций в тех сферах, где это представляется целесообразным. Когда речь заходит о таможенном регулировании, государства сохраняют приоритет в принятии правовых актов, устанавливающих условия и порядок перемещения товаров через границу. Такое по- ложение дел прослеживается в национальных законах, постановлениях и указах, где детально прописаны правила ввоза и вывоза, ставки пошлин и обязанности участников внешнеэкономической деятельности [1].
Рассматривая суверенитет как основу правового статуса государств в таможенной сфере, следует отметить несколько важных аспектов. Во-первых, государство самостоятельно определяет круг товаров, подлежащих обложению пошлинами, размеры этих пошлин и условия получения льгот. Во-вторых, государственные органы контролируют границы, организуя таможенные посты, пропускные пункты и систему досмотра, чтобы пресечь незаконное перемещение товаров. В-третьих, государство принимает меры административного и уголовного реагирования, если обнаруживаются нарушения таможенных правил. Все перечисленные инструменты являются прямым выражением суверенной власти и не могут быть осуществлены без соответствующей законодательной базы, закрепляющей компетенцию уполномоченных органов. При этом в современном мире ни одно государство не может полностью игнорировать внешние факторы, поскольку участие в международных соглашениях и членство в организациях наподобие Всемирной торговой организации создаёт определённые обязательства по унификации норм и упрощению формальностей [2].
Содержательную иллюстрацию данной совокупности полномочий даёт Киотская конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур, которая требует, чтобы государства-участники устанавливали прозрачные и предсказуемые правила оформления товаров. В то же время каждая страна может вводить определённые ограничения, обусловленные защитой государственной безопасности, здоровьем населения или охраной окружающей среды. Баланс между этими двумя полюсами - стремлением к либерализации торговли и сохранением приоритетности национальных интересов - и предопределяет специфику государственного суверенитета в таможенном деле. Дополнительным примером служит Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли, ориентированное на снижение бюрократических барьеров, но не отменяющее право государства вводить особые меры контроля при чрезвычайных обстоятельствах.
Важнейший инструмент проявления суверенитета государств в таможенной сфере -возможность устанавливать ставки таможенных пошлин, назначать особые режимы (например, свободные таможенные зоны) или вводить полный запрет на ввоз отдельных категорий товаров. Указанные решения принимаются на уровне национального законодательства, отражая политические и экономические приоритеты государства. В Российской Федерации базовые нормы закреплены в Федеральном законе № 289-ФЗ «О таможенном регулировании…», где подробно регламентированы функции и полномочия Федеральной таможенной службы и порядок администрирования таможенных платежей [3]. Аналогично в других странах действуют собственные кодексы и приказы таможенных ведомств, обеспечивающие реализацию национальной политики. При этом каждая страна, являясь участником глобальных соглашений, ищет компромисс, чтобы, с одной стороны, выполнить международные обязательства, а с другой - защитить свои финансовые, социальные и политические интересы.
Представленные функции формируют системную основу, на которой строится взаимодействие государств с иными субъектами таможенного права, будь то международные организации или коммерческие структуры. При этом суверенный статус проявляется не только в праве государства издавать собственные нормативно-правовые акты, но и в закреплении административных процедур, позволяющих таможенным органам контролировать и пресекать любые попытки обхода пошлин или ввоза запрещённой продукции. Сферы применения суверенитета в таможенном деле многогранны: от установления таможенного тарифа и специальных пошлин (например, антидемпинговых) до введения квот или запретов в рамках национальной безопасности.
При этом реализация суверенитета в таможенной отрасли тесно переплетается с процессами имплементации международных норм. Государства редко действуют в полной изоляции, ведь участие в глобальных рынках подразумевает необходимость следования многосторонним правилам. Так, ратификация Конвенций Всемирной таможенной организации (например, об упрощении формальностей при транзите) означает, что страна берёт на себя юридически обязывающие обязательства внедрять согласованные методы классификации и декларирования товаров. Если рассматривать Всемирную торговую организацию, то ратификация Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ 1947) предполагает соблюдение принципа недискриминации и режима наибольшего благоприятствования в торговых отношениях, что напрямую влияет на национальную таможенную тарифную политику.
Имплементация таких обязательств нередко предполагает внесение поправок в национальные кодексы или принятие специальных нормативных актов. К примеру, приказы ФТС регулируют процедуры электронного декларирования или устанавливают порядок взаимодействия с экономическими операторами, что отражает требования международных договоров. Подобная практика свидетельствует о том, что государство остаётся основным актором, способным интегрировать внешние нормы в собственную правовую систему. Смысловой результат такого процесса - унификация таможенных правил, создающая более предсказуемые условия для глобальной логистики и торговли. Однако каждое государство сохраняет право вводить исключения, обусловленные национальными интересами, причём от него требуется лишь обоснование этих мер и следование прописанным в договорах процедурам уведомления.
Говоря о правовом статусе государства, нельзя обойти вниманием вопрос передачи части суверенных полномочий наднациональным органам. Это особенно актуально для региональных интеграционных объединений, таких как Евразийский экономический союз или Европейский союз. В ЕАЭС государства-участники передали часть своих таможенных функций Евразийской экономической комиссии, которая устанавливает единые правила оборота товаров, тарифы и другие ключевые аспекты, действующие на территории союза. В Европейском союзе ещё более глубокая интеграция приводит к тому, что отдельным государствам приходится подчиняться решениям наднациональных институтов в таможенной и торговой политике. Тем не менее эти государства формально не утрачивают суверенитет, а лишь разделяют его реализацию с соответствующими органами, оставляя за собой право выхода из союзов или пересмотра полномочий в случае изменения политического курса [4].
Примером делегирования полномочий в контексте российского законодательства служит вступление России в ЕАЭС. Таможенный кодекс ЕАЭС и решения наднациональных органов обладают прямым действием, однако российские власти сохраняют определённые инструменты контроля за исполнением этих решений и могут влиять на процедуру принятия актов через представительство в наднациональных структурах. Таким образом, государство формально остаётся первичным носителем суверенитета, хотя его реализация в таможенной сфере претерпевает модификацию в силу интеграционных процессов. Подобная схема даёт возможность участникам союза воспользоваться преимуществами единой таможенной территории и усилить кооперацию с партнёрами по блоку.
Наблюдаемая «передача» компетенций заметна и в других регионах: в МЕРКОСУР (общие принципы тарифной политики), в АСЕАН (сближение таможенных процедур), в ЕАЭС (единое тарифное пространство). В любом случае каждое государство уравновешивает выгоды от создания общего рынка -например, увеличение объёмов торговли, снижение барьеров, приток инвестиций - с риском утраты части контроля за своей внешнеэкономической политикой. В результате формируется механизм «остаточного суверенитета», при котором основные функции, перечисленные в приведённой выше таблице, продолжают осуществляться государственными органами, но отдельные решения выносятся на уровень наднациональных органов, обладающих ограниченной правосубъектностью.
Несмотря на все процессы глобализации, государство остаётся основным гарантом соблюдения порядка на границах и сборов пошлин. Зачастую таможенные посты играют роль «первой линии защиты» как экономической, так и санитарно-эпидемиологической, обеспечивая, чтобы запрещённая или опасная продукция не проникала на внутренний рынок. На практике это означает, что таможенные органы получают право применять меры пресечения, конфискации, возбуждать дела по фактам контрабанды, а также сотрудничать с компетентными органами других стран. По- добное сотрудничество формирует международное взаимодействие в сфере правоохранительной деятельности, но его инициатором и конечным гарантом по-прежнему выступает государство, обладающее суверенным правом «охранять» свою таможенную территорию.
Некоторые исследователи указывают, что роль государства может видоизменяться под влиянием современных вызовов. Возрастает значение электронных платформ, транснациональных корпораций, цифровых технологий декларирования и предварительного информирования. Однако даже в условиях цифровой трансформации государство продолжает быть официальным распорядителем процессов: именно его органы сертифицируют электронные системы, признают сведения, передаваемые через каналы электронной таможни, и сохраняют право блокировать нежелательную деятельность. Значение национальных правовых норм ещё более усиливается при введении санкционных режимов или повышении уровня террористической угрозы, когда таможенным администрациям приходится жёстко контролировать потоки товаров, независимо от желаний других участников рынка. Всё это подтверждает мысль о том, что никакая наднациональная структура не способна полноценно заменить государство в вопросах таможенного регулирования.
Разумеется, государства не только осуществляют прямые властные функции, но и способствуют развитию международной кооперации. Заключение соглашений об упрощении и взаимном признании результатов контроля, сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации, интеграция в унифицированные тарифные системы - все эти процессы указывают на сознательный выбор стран идти навстречу глобальной экономической взаимозависимости. При этом каждая договаривающаяся сторона формально имеет возможность денонсировать договоры или приостановить их действие, если сочтёт, что её суверенные интересы нарушаются. Такую ситуацию можно наблюдать, когда страны вводят торговые ограничения в связи с политическими или санитарными обстоятельствами: хотя это противоречит духу свободной торговли, но является проявлением суве- ренитета, дающим право приостанавливать ранее принятые обязательства. В итоге подобная практика служит напоминанием, что центральный статус государств продолжается в той мере, в какой они сохраняют возможность самостоятельного решения о степени и объёме интеграции [5].
Все перечисленные аспекты подтверждают, что государство остаётся первичным носителем международной правосубъектности и таможенного суверенитета. При этом оно может интегрировать в свою правовую систему международные соглашения, передавать часть функций наднациональным институтам или соблюдать унифицированные стандарты декларирования, однако без его воли и ратификационных процедур никакие международные нормы не будут иметь эффекта на национальном уровне. Государство, таким образом, определяет вектор развития: выбирает, каким стандартам следовать, какие тарифы устанавливать, как взаимодействовать с соседними странами, в каких международных организациях состоять. В условиях глобализации эта роль не становится второстепенной, а лишь приобретает более сложные очертания, требуя постоянного поиска баланса между собственными интересами и общими принципами упрощения, гармонизации и обеспечения безопасности торговли [6].
В заключение следует подчеркнуть, что государства - краеугольный камень международного таможенного права. Они формируют основную нормативно-правовую базу, осуществляют контроль над перемещением товаров, налагают пошлины и применяют меры ответственности за нарушения. Любое действие наднациональных органов или частных структур опосредуется согласием государства и его готовностью воплощать международные правила в собственном законодательстве. Даже когда государства объединяются в союзы, создавая единые таможенные территории, они всё равно сохраняют остаточный суверенитет и могут пересматривать формат интеграции. Таким образом, правовой статус государств в международном таможенном праве остаётся фундаментальным, определяющим общую логику распределения ролей и механизмов взаимодействия всех других акторов.