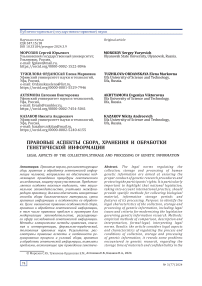Правовые аспекты сбора, хранения и обработки генетической информации
Автор: Морозов С.Ю., Тужилова-орданская Е.М., Ахтямова Е.В., Казаков Н.А.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Публично-правовые (государственно-правовые) науки
Статья в выпуске: 3 (77), 2024 года.
Бесплатный доступ
Правовые нормы, регламентирующие сбор, хранение и обработку генетической информации человека, направлены на обеспечение надлежащего проведения процедуры генетического исследования, защиту прав участников. Представляется особенно важным выделить, что национальное законодательство, учитывая международную практику, должно обеспечить конкретные способы сбора биологического материала, сроки хранения информации и особенности ее обработки.
Геном человека, генетическая информация, персональные данные, биометрические данные, биологические материалы, сбор, хранение, обработка, использование, биобанк
Короткий адрес: https://sciup.org/142243336
IDR: 142243336 | УДК: 347.15/18 | DOI: 10.33184/pravgos-2024.3.9
Текст научной статьи Правовые аспекты сбора, хранения и обработки генетической информации
Всемирный процесс исследования генетической информации затронул большую часть сфер жизни людей. Использование современных технологий для развития генной инженерии, а также синергия между генной инженерией и технологиями искусственного интеллекта позволяют осуществлять новые прорывы и достижения в этой сфере, которые, несомненно, могут оказывать воздействие на геном человека и в целом формируют будущее человечества. При этом отсутствие должной правовой основы для проведения исследований создает существенные проблемы.
Этап полной расшифровки генома человека, который был завершен в 2023 г., логично подвел к вопросу легитимности генетических исследований и иных манипуляций в отношении человека. В частности, когда генетическая информация, извлеченная из биологических материалов, проходит стадии сбора, хранения и обработки, возникают ситуации, влекущие возможность нарушения прав человека на личную жизнь. Полученная современными методами информация о геноме человека может быть использована в различных целях: личных, коммерческих, исследовательских. В связи с этим должен быть обеспечен баланс как общественных, так и частных интересов, создающих основу для необходимого уровня охраны предоставленной информации. До сих пор остаются неизвестными пределы и возможности использования генетической информации.
Указанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности исследования и необходимости определения надлежащих правовых механизмов получения, обработки хранения генетической информации человека. Учитывая, что такая информация имеет присущие только ей особенности и свойства, представляется важным обозначить правовые проблемы, возникающие в данной сфере.
Правовые аспекты регулирования сбора, хранения и обработки генетической информации на международном уровне
Генетическая информация выступает объектом повышенной охраны, что напрямую подкрепляется положениями актов международного значения.
Так, Международная декларация о генетических данных человека, принятая 16 октября 2003 г. Генеральной конференцией ЮНЕСКО1, закрепила особый статус генетической информации как конфиденциальной, позволяющей получить сведения не только о конкретном лице, передавшем биологический материал для изучения, но и об иных лицах, в особенности это касается прогнозирования генетической предрасположенности. В отношении сбора, последующего обращения и хранения генетической информации челове- ка необходимо соблюдение ряда правил, которые основываются в первую очередь на получении разрешения на проведение генетического исследования путем личного и осознанного волеизъявления (согласия). При этом на практике учитываются ситуации, когда лица в силу своего возраста, психической неспособности или по другим причинам не в состоянии осознанно выразить такое согласие. В этом случае его могут предоставить законные представители, действующие в интересах такого лица. Стоит отметить, что права и интересы любого человека считаются главенствующими по сравнению с теми правами и интересами, которые преследует государство и общество в целом. Однако это не означает, что личные интересы и общие блага противопоставляются. По мнению В.С. Нерсесянца, «общее благо выражает объективно необходимые всеобщие условия для возможного совместного бытия и согласованного совместного сосуществования всех членов данного сообщества в качестве свободных и равных субъектов и тем самым одновременно – всеобщие условия для выражения и защиты блага каждого» [1, с. 71].
Позиция ученого основывается на общемировых принципах, касающихся свободы реализации прав человека, соблюдения невмешательства в личную жизнь физических лиц, конфиденциальности полученной информации при проведении генетических исследований. В связи с этим в международном сообществе сформировалось в качестве фундаментального правила-принципа обязанность оформления добровольного согласия с пациентом на использование предоставленной информации с учетом применения режима конфиденциальности в отношении нее. Данный принцип нашел отражение в Конвенции о защите прав человека в области биомедицины2.
Его суть заключается в том, что лицо своим волеизъявлением разрешает проведение определенных манипуляций со своими биологическими образцами при условии обеспечения тайны полученных в связи с исследованием результатов. Лицо, выразившее добровольное согласие, информируется о це- ли и значении исследования, времени и способах его проведения, возможности отзыва согласия и отказа от исследования, предположительных рисках и последствиях для состояния здоровья. При этом стоит учитывать, что рассматриваемый принцип определяет всего лишь основы обращения биологических образцов с учетом условий конфиденциальности, однако он не устанавливает необходимый правовой режим оборота и обеспечения сохранности предоставленной генетической информации.
Следует отметить, что, исходя из положений Конвенции, процедура информирования должна быть надлежащей одновременно и по содержанию, и по форме.
Согласно Конвенции согласие пациента по форме выражения может быть подразумеваемым или явно выраженным; явно выраженное, в свою очередь, подразделяется на устное и письменное.
Независимо от формы выражения согласия ключевым и решающим элементом его действительности является соответствующее предварительное информирование пациента. Кроме того, форма согласия зачастую зависит от характера предполагаемого медицинского вмешательства. Так, подразумеваемое согласие обычно рассматривается как оптимальное при осуществлении вмешательств, относящихся к повседневной медицине (при условии, что заинтересованное лицо было предварительно в достаточной степени проинформировано).
Для проведения инвазивных медицинских процедур может потребоваться явно выраженное документально подтвержденное согласие. Явное и конкретное согласие требуется также в случаях, когда речь идет об участии в исследовании, предполагающем медицинское вмешательство, или об изъятии органа у живого донора (ст. 16 и 19 Конвенции).
Однако стоит учитывать, что научные исследования проводятся в отношении неопределенного объема генетической информации, что, не всегда позволяет их конкретизировать и, соответственно, четко прописать.
В связи с этим выделяются и разные виды согласия. Так, в международной практике они подразделяются на отдельное согласие, которое дается на проведение конкретных и, как правило, разовых исследований, предполагающих физическое вмешательство (например, изъятие тканей для конкретного исследовательского проекта), и неспецифическое (общее, или расширенное). Неспецифическое согласие предусмотрено, как правило, для решения множества задач исследования и дальнейшего неограниченного научного использования результатов и находящихся на хранении материалов. Соответственно, оно предполагает использование предоставленных генетических данных в исследованиях неограниченного или продолжительного времени, с учетом предусматриваемых рисков и возможных потенциальных выгод. Поэтому логично, что именно при получении неспецифического согласия существует риск нарушения прав субъектов, давших такое разрешение. Неспецифическое согласие может быть дано только после получения максимально точной информации о дальнейшем использовании биологического материала.
Также в международной практике существует выборочное согласие. Его суть заключается в том, что лицо может лично определить режим использования предоставленных данных: либо для конкретного генетического исследования, либо для долгосрочного хранения и использования в неопределенных будущих исследованиях. В случае получения данного согласия для конкретного использования без хранения данные подлежат уничтожению в связи с достижением поставленных целей. Помимо указанного согласия, в некоторых странах, в частности в Великобритании, практикуется повторное получение согласия для продолжения исследований, даже в случае достижения целей.
Определяя цель, ради которой специалисты получают согласие на проведение генетического исследования, необходимо отметить, что до лица должны быть доведены сведения о возможных рисках, связанных с агрегированием генетических данных в биологических базах данных (биобанках). При этом используются самые разные виды согласий, как добровольные, посредством презюмированности согласия, так и использующие концепцию общего согласия, выраженного на все будущие исследования. Подобную концепцию нельзя рассматривать как исключительно положительную, поскольку лица, выразившие согласие, должны знать обо всех вариантах использования их персонифицированной информации, возмож- ных последствиях и рисках. В особенности это должно учитываться, когда население страны имеет различные культурные, религиозные, социологические и иные корни.
Само по себе согласие в научных исследованиях – это всегда динамика отношений, складывающихся между участниками. Именно поэтому должно быть предусмотрено право участника на отказ от исследования.
Не стоит забывать и о том, что необходимо обеспечить должную свободу исследований. Такой принцип закреплен в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах3, который провозглашает обязанность государств-участников уважать свободу, необходимую для научных изысканий и творческой деятельности. Аналогичное положение содержится в п. d ст. 2 Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека, отмечающей, что преследуемая цель – это признание значимости свободы научных исследований и благ, приносимых научно-техническим прогрессом4. Принцип свободы исследований закреплен и в нормативных актах государств – участников указанных международных договоров.
Несмотря на всемирную поддержку и поощрение научных изысканий, свободу их проведения, важным является именно процедура изучения какого-либо явления, а не обращение в чью-либо пользу полученных результатов.
Таким образом, можно констатировать, что режим конфиденциальности генетической информации как персональных данных обеспечивает надлежащий контроль, но не обеспечивает в полной мере свободу исследований, поскольку без необходимого и полноценного доступа к такой информации нельзя достичь больших результатов.
Выделяя генетическую информацию с целью использования ее в разных областях, необходимо определить пределы и границы, поскольку в настоящее время возникает повышенный интерес к полученным из биологических материалов сведениям. Тем не менее в нынешних реалиях невозможно ограничить использование генетической информации исключительно в научных и медицинских целях.
Анализ международного законодательства показал, что генетическую информацию относят к особым персональным данным человека, а в некоторых случаях – к так называемым чувствительным данным (от англ. sensitive data), то есть данным, которые содержат конфиденциальную информацию.
Так, согласно п. 34 Регламента Европейского Парламента и Совета Европейского союза 2016/679 от 27 апреля 2016 г. «О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных данных, General Data Protection Regulation – GDPR), генетические данные (информация) определяются как персональные данные, относящиеся к унаследованным или приобретенным генетическим характеристикам физического лица, которые являются результатом анализа биологического образца данного физического лица, в частности хромосомного анализа, анализа дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) или рибонуклеиновой кислоты (РНК) или анализа другого элемента, позволяющего получить эквивалентную информацию5. При этом, согласно п. 35 обозначенного Регламента, такие персональные данные относятся к категории «персональных данных, связанных со здоровьем». К ним относится в том числе и информация, полученная в результате исследования или обследования части тела или телесного материала, включая генетические данные и биологические образцы и т. д.
Закон Великобритании «О защите данных» выделяет генетические и биометрические данные в отдельную категорию чувствительных данных, подлежащих особой обработке [2, с. 51].
В соответствии со ст. 4 Регламента 2016/679 «О защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46 / EC (Общие правила защиты данных)6 под обработкой понимаются действия, выполняемые с персональными данными или их набором, причем вне зависимости от их автоматизированности – сбор, хранение, изменение или распространение, в том числе доступ или же ограничение, а также уничтожение и др. При этом в ст. 9 предусматривается, что, по общему правилу, генетические данные не подлежат обработке, за исключением случаев, четко прописанных в п. 2 ст. 9, где указаны в том числе научные, исторические исследования, статистические цели и т. д.
Законодательство США, а именно Калифорнийский закон о защите прав потребителей, содержит определение биометрических данных, под которыми понимаются особенности характеристики человека, включая ДНК, использующиеся как отдельно, так и в совокупности для идентификации личности7.
Правовые аспекты регулирования сбора, хранения и обработки генетической информации на отечественном уровне
В России генетическая информация относится к персональным и биометрическим данным. В научной литературе неоднократно высказывались предложения о распространении гражданско-правового режима на генетическую информацию. Это связано с тем, что она позволяет идентифицировать личность, выявить патологические заболевания или риск их возникновения, а также отнести лицо к определенному культурно-историческому типу. Е.Е. Богданова считает, что генетическую информацию нельзя рассматривать только как персональные данные, поскольку сведения, полученные при анализе биологических материалов, несут в себе информацию о доноре и кровных родственниках. Генетическая информация составляет тайну частной жизни и подлежит гражданско-правовому регулированию в качестве нематериального блага [3, с. 20].
Е.М. Тужилова-Орданская и Е.В. Ахтямова отмечают, что для генетической информации необходимо в установленном законом порядке определить особый правовой статус, разграничить персональные биометрические данные путем выделения в отдельную самостоятельную категорию персональных данных, затрагивающих интересы третьих лиц – родственников. Авторы предлагают внести изменения в ГК РФ, закрепив персональные данные в качестве особого нематериального блага [4, с. 175]. Это связано с тем, что информация, хоть она и не закреплена в качестве объекта гражданских прав, рассматривается в юридической литературе в качестве коммерческой тайны. К тому же информация входит в содержание интеллектуальной деятельности по созданию базы данных, что подтверждается как практикой, так и законодательством. Генетическая информация, как уже говорилось, составляет тайну личной жизни человека.
Генетическая информация в определенном объеме позволяет идентифицировать того или иного человека. В этом случае от него должно быть получено согласие на последующее проведение манипуляций с принадлежащими ему генетическими данными. Однако если ее объема недостаточно для идентификации, то распространять на такую информацию режим персональных данных не следует.
Учитывая, что генетическая информация представляет собой наивысшую ценность, можно выделить спектр интересов, обращенных к ней: личный, предпринимательский и научный. По мнению А.В. Кубышкина и С.В. Косил-кина, «необходимо отразить баланс указанных интересов путем установления достаточно четких и разработанных норм в позитивном праве, в том числе и на уровне международного права и права межгосударственных интеграционных образований, необходимо использование симбиотического регулятора, включающего как правовые нормы, так и нормы иной социальной природы» [5, с. 113]. Исходя из этого, необходимо обеспечить защиту прав лиц, предоставивших свою генетическую информацию, пресечь возможные злоупотребления полученной информацией, в том числе не допустить ее утечку при обработке и хранении в биобанках – специализированных организациях, цель деятельности которых связана с получением, обработкой, хранением и использованием полученной генетической информации, в том числе систематизацией и закреплением в своей базе данных.
В первую очередь стоит рассмотреть государственные биобанки. В соответствии с п. 2 постановления Правительства РФ от 24 июня 2023 г. № 1027 «О некоторых вопросах реализации Федерального закона "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации"» оператором федеральной базы данных геномной информации является Министерство внутренних дел РФ8. В деятельности по проведению обязательной государственной геномной регистрации могут участвовать: учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы; органы предварительного следствия, органы дознания; подразделения органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности по розыску без вести пропавших лиц, а также установлению по неопознанным трупам личности человека; территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающие в соответствии с законодательством Российской Федерации содержание задержанных и (или) заключенных под стражу лиц, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации, и лиц, подвергнутых административному наказанию в виде административного ареста (данный пункт вступает в силу с 1 января 2025 г.); подразделения органов внутренних дел Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации, к компетенции которых относится осуществление экспертно-криминалистической деятельности; учреждения судебно-медицинской экспертизы, входящие в государственную систему здравоохранения.
Изменения, внесенные в Федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности», закрепили понятие генетической информа- ции как последовательность нуклеотидов в полимерах нуклеиновых кислот, и генетических данных как сведений о генетической информации различных биологических объектов, представленных в форме, пригодной для получения (сбора), систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи) и уничтожения такой информации9. Данные поправки вступают в силу с 1 сентября 2024 г. Указанные термины соотносятся как общее и частное. При этом следует признать, что такие поправки устранили терминологическую неопределенность в генно-инженерной сфере деятельности. Однако наиболее приковывающим внимание является исключение из регулирования данного закона таких терминов, как «генодиагностика» и «генотерапия», поскольку данные виды деятельности должны, по логике законодателя, относиться к сфере регулирования законодательства об охране здоровья граждан в Российской Федерации.
Изменения также закладывают основу деятельности для учреждаемого биобанка, получившего название «Национальная база генетической информации». В связи с этим ученые считают, что «единая база данных станет ключевым элементом инфраструктуры генетических исследований и разработок в России, которая будет обеспечивать хранение, интеграцию и анализ информации, получаемой отечественными и зарубежными организациями» [6, с. 99]. При этом стоит учитывать, что постановление Правительства РФ от 31 января 2024 г. № 87 «О государственной информационной системе в области генетической информации "Национальная база генетической информации"»10 разрешает использование искусственного интеллекта и технологий машинного обучения при обработке поступающей генетической информации, что позволяет в короткие сроки обрабатывать большой объем информации и интегрировать ее в исследовательскую деятельность.
Но помимо положительных результатов использования новых технологий существуют и отрицательные, а именно риск неправомерного доступа третьих лиц к такой информации и использования ее в целях, не соответствующих закону.
Р.Т. Байгарин отметил, что «риск несанкционированного доступа к информации, содержащейся в консолидированных базах данных, несет в себе опасности как для частных, так и для публичных интересов, вплоть до угроз национальной безопасности» [7, с. 173]. Эта проблема может возникнуть в связи с использованием упрощенного шифрования получаемых данных, а также устаревших технологических способов с целью сокращения расходования выделенных государством средств. Соответственно, если будет обеспечено внедрение новейших технологий, использующих специальные способы шифровки данных, и повышенный уровень защиты, то получится минимизировать риск утечки генетической информации.
М.П. Имекова считает, что могут быть созданы разные виды биобанков [8, с. 56]. По видам деятельности выделяются биобанки, направленные на проведение научных изысканий, медицинских исследований, а также криминалистические. При этом отмечается, что «принципиальное различие между биологическими базами данных (биобанками) заключается в том, что правовой статус федеральной базы геномной информации подлежит определению специальным нормативным актом, в то время как иные виды биологических баз данных функционируют в условиях отсутствия необходимой правовой основы» [9, с. 136].
Тем не менее заметен количественный рост частных коммерческих биобанков в России. Это связано с тем, что большую популярность приобрели любительские анализы ДНК (без медицинских показаний), которые основываются на проведенном генетическом тестировании, выделяющем определенные сведения, касающиеся психофизического здоровья, культурных и родственных связей. По результатам такого анализа обратившееся лицо получает информацию о состоянии своего здоровья, наличии аллергических реакций, патологических или иных мутационных процессах, в том числе о профессиональных, творческих, умственных способностях.
Несмотря на положительные стороны проводимых частными биобанками процедур, именно из них существует повышенный риск утечки генетической информации. Это связано с тем, что подобные организации не имеют действенных механизмов защиты от несанкционированного доступа третьих лиц к хранящейся генетической информации, да и в целом не нацелены на обеспечение ее безопасности. К тому же определенные опасения вызывает, как указывает М.Н. Малеина, отсутствие системного подхода законодателя к формированию нормативной базы о биобанках [10, с. 101].
Исходя из стандартного регламента деятельности биобанков, на них возлагается обязанность получить в простой письменной форме добровольное информированное согласие своего клиента (донора) на обработку данных, извлеченных из его биологического материала. При этом таких согласий должно быть несколько: на изъятие биологического материала, на участие в проводимом исследовании, на обработку передаваемых биобанку персональных данных. Однако зачастую не представляется возможным заранее предусмотреть, на какое конкретное исследование будет направлена полученная генетическая информация. Существенным нарушением в таком случае является несоблюдение законодательного требования о предоставлении согласия донора как непосредственного участника исследования.
Проблематичным является и то, что имеющиеся законодательные положения не учитывают возможные личные интересы человека, который предоставил свою генетическую информацию для проведения интересующего его исследования.
В последующем действия биобанка связаны с обезличиванием полученных генетических данных, которые позволили бы определить взаимосвязь донора и его биоматериала. В том числе возможно применение процедуры анонимизации с помощью соответствующих технологий. Это позволит исключить возможность простого сопоставления данных без необходимых технических средств. Стоит отметить, что указанные требования являются обязательными для соблюдения прав человека на конфиденциальность.
При получении биологического материала биобанки, в соответствии со своей деятельностью, осуществляют его обработку и хранение. При этом такие материалы находятся либо во временном владении биобанка, оставаясь в собственности клиентов, либо исключительно в собственности биобанка. В.А. Трубина считает, что право собственности на биоматериалы переходит от оригинатора (донора) к научно-исследовательской или медицинской организации, которая может распоряжаться ими в пределах, установленных договором и законодательством, в то время как информация, являющаяся объектом личных неимущественных прав и относящаяся к категории персональных данных, не может быть отчуждена от оригинатора в силу своей природы [11, с. 155]. Соглашаясь с данным мнением, думается, что необходимо обеспечить раздельное хранение и обособленный учет биоматериалов всех доноров биобанков.
В ст. 5 Федерального закона «О персональных данных» предусмотрено, что обрабатываемая информация должна быть ограничена конкретными и заранее определенными законными целями11. При этом весь объем обработанной генетической информации должен соответствовать заранее указанным в договоре с донором целям.
Однако цель, которую определил законодатель, может стать неопределенной, поскольку не всегда представляется возможным предусмотреть все варианты использования генетических данных. Это предопределяется долей неизвестности, которую содержит генетическая информация. В таком случае в процессе сбора биологического материала невозможно определить значение и полный объем получаемой генетической информации, о которой следует проинформировать лицо. Соответственно, при проведении сотрудником исследования и заполнении участником исследования согласия на обработку персональных данных необходимо будет указать весь возможный перечень способов сбора, хранения и использования полученной генетической информации в самых различных целях [12, с. 106].
Генетические данные позволяют идентифицировать субъекта, а потому возникают опасения, связанные с использованием такой информации в противоправных целях. В связи с этим должны быть разработаны четкие правовые меры противодействия. К тому же перед законодателем ставится задача, согласно которой должно быть ясно определено, в каких случаях возможно добровольное или же обязательное предоставление генетической информации, в том числе установлены сроки ее хранения в целом и в конкретно определенных биобанках. Должны быть предусмотрены правила соблюдения конфиденциальности предоставленной генетической информации, исключающие получение несанкционированного доступа к ней иных лиц. Указанное положение должно быть отражено на законодательном уровне в виде перечня субъектов, имеющих доступ к предоставленной информации, в том числе предусмотрена возможность ее обезличивания.
Международные акты регламентируют автоматическое удаление и прекращение использования генетической информации в связи с достижением поставленной цели. Однако указанное правило в российских нормативно-правовых актах предусмотрено несколько в ином виде. В частности, п. 1 ст. 12 Федерального закона «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» определяется, что предельный срок хранения геномной информации, полученной при проведении геномной регистрации граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих либо временно пребывающих на территории России, связан с установлением факта их смерти либо равен 100 годам их возраста, если сведений о факте смерти не имеется. Исключение составляет срок хранения в отношении неустановленных субъектов, чей биоматериал был изъят в ходе производства следственных действий, неопознанных трупов, близких родственников пропавшего без вести лица. В этом случае он равен 70 годам12.
По истечении указанных сроков такая информация уничтожается организацией или органом, на который возложено ее хранение.
Также в законодательстве отмечается, что генетическая информация, полученная при добровольной регистрации, уничтожается по заявлению самого лица, законных представителей несовершеннолетних, ограниченно дееспособных и недееспособных лиц.
Актуальным вопросом является обработка генетической информации не только непосредственного участника исследования, но и третьих лиц, связанных с ним родством. К таким субъектам можно отнести кровных родственников – носителей тех или иных генов, иных субъектов правоотношений, в которых участник исследований состоит [13, с. 91]. Генетическая информация данных субъектов позволяет раскрыть их наследственные болезни, возможные мутации и т. д., о которых они не знали или не хотели бы знать.
При этом аналогичным образом затрагиваются интересы наследодателя и наследников в случае обработки их генетической информации. При исследовании биобанк не опосредованно обрабатывает информацию сразу нескольких лиц, донора и наследников, в связи с их биологической связью. Даже учитывая, что генетическое исследование прямо затрагивает их интересы, международные и российские нормативные акты не предусматривают получение согласия от обозначенных выше субъектов.
Соответственно, дальнейшие генетические исследования не требуют какого-либо согласия на обработку генетических данных от иных лиц, так или иначе связанных с самим донором, в связи с чем никак не влияют на потребности научных исследований. Оправданность получения согласия иных лиц могла бы положительно сказаться на возможности превентивного лечения выявленных у них заболеваний.
Из изложенного следует, что в российском законодательстве не предусматриваются процедуры, позволяющие донору биоматериала отозвать свое согласие. Поскольку генетическая информация предполагает проведение научных исследований, биобанк может в дальнейшем использовать ее в исследовательских целях, обезличив, но не уничтожив. Таким образом, даже в случае отзыва согласия на обработку данных, генетическая информация конкретного донора может быть использована в научных целях.
Заключение
На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
Во-первых, в сфере генетических исследований видится необходимость нормативного закрепления такого направления, как «научные генетические исследования», в качестве отдельного элемента с особым правовым режимом.
Во-вторых, индивидуальное добровольное согласие должно получить нормативное закрепление в законодательстве Российской Федерации, касающемся сферы генетических исследований. В этой связи представляется важным закрепить в нормативно-правовых актах, условия использования полученных генетических данных в строго определенных целях, в том числе научных. Как вариант, возможно внедрение различных по характеру, объему и содержанию видов согласия на доступ к таким сведениям. После того как цель, в связи с которой было выражено согласие донора, была достигнута, необходимо обеспечить автоматическое удаление генетической информации.
Материалы, включающие в себя генетическую информацию, а также генетический профиль, полученный с помощью высокотехнологичного оборудования, не должны в свободной форме собираться у доноров биоматериалов и уж тем более храниться без достаточных для того оснований.
В-третьих, требуется провести модернизацию правового регулирования деятельности биобанков, которая позволила бы конкретизировать особенности получения и обработки информации, виды ее использования, а также информационно-технические и юридические меры защиты.
В-четвертых, необходимо на законодательном уровне определить конкретные сроки хранения генетической информации при проведении генетических исследований, поскольку их отсутствие влечет нарушение прав доноров генетического материала.
Таким образом, должны быть обеспечены гарантии доноров генетического материала как участников генетических исследований в процессе сбора, хранения и обращения генетической информации.
Список литературы Правовые аспекты сбора, хранения и обработки генетической информации
- Нерсесянц В.С. Философия права: учебник / B.С. Нерсесянц. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. - 848 с.
- Балашов К.Г. Актуальные проблемы отечественного правового регулирования сбора, хранения и передачи геномной информации в условиях современных вызовов / К.Г. Балашов, Н.В. Кравченко // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. - 2023. - Т. 13, № 3. - С. 42-57.
- Богданова Е.Е. Правовые проблемы и риски генетической революции: генетическая информация и дискриминация / Е.Е. Богданова // Lex Russica. - 2019. - № 6. - C. 18-29. DOI 10.17803/1729-5920.2019.151.6.018-029.
- Тужилова-Орданская е.М. Проблемы гражданско-правового регулирования в сфере защиты прав гражданина в Российской Федерации при использовании генетической информации / Е.М. Тужилова-Ордан-ская, Е.В. Ахтямова // Вестник Пермского университета. Юридические науки. - 2021. - № 52. - С. 263-284. -DOI 10.17072/1995-4190-2021-52-263-284.
- Кубышкин А.В. Международно-правовое регулирование генетических исследований и его имплементация в российское законодательство / А.В. Кубышкин, С.В. Косилкин // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. - 2021. - Т 25, № 1. -С. 107-125. - DOI 10.22363/2313-2337-2021-25-1-107-125.
- Хусаинова РИ. Юридические проблемы защиты прав человека в Российской Федерации при использовании молекулярно-генетических технологий в медицине / РИ. Хусаинова, И.Р. Минниахметов, Б.И. Ялаев и др. // Гены и клетки. - 2021. - Т. 16, № 3. - С. 97-103. -DOI 10.23868/202110014.
- Байгарин РТ. Правовые проблемы обеспечения кибербезопасности генетических данных в Российской Федерации / РТ. Байгарин // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2023. - № 2 (102). - С. 168-176. -DOI 10.17803/2311-5998.2023.102.2.168-176.
- Имекова М.П. Биобанк как объект прав / М.П. Имекова // Журнал российского права. - 2020. -№ 12. - С. 54-65.
- Болтанова Е.С. Виды биологических баз данных (биобанков) / Е.С. Болтанова, М.П. Имекова // Вестник Томского государственного университета. Право. - 2021. -№ 41. - С. 136-148.
- Малеина М.Н. Правовой статус биобанка (банка биологических материалов человека) / М.Н. Малеина // Право. Журнал Высшей школы экономики. - 2020. -№ 1. - С. 98-117.
- Трубина В.А. Ткани и органы человека как объекты гражданских прав: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / B.А. Трубина. - Москва, 2020. - 219 с.
- Рассолов И.М. Внутриотраслевые принципы обработки генетической информации / И.М. Рассолов, C.Г. Чубукова // Актуальные проблемы российского права. - 2019. - № 5 (102). - С. 98-110.
- Казаков Н.А. Правовые проблемы использования генетической информации человека в Российской Федерации / Н.А. Казаков, Е.В. Ахтямова // Правовое государство: теория и практика. - 2022. - № 4 (70). -С. 86-93. - DOI 10.33184/pravgos-2022.4.12.