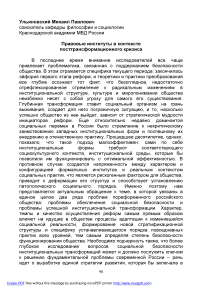Правовые институты в контексте пост-трансформационного кризиса
Автор: Ульяновский М.П.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 2, 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14932493
IDR: 14932493
Текст статьи Правовые институты в контексте пост-трансформационного кризиса
Ульяновский Михаил Павлович соискатель кафедры философии и социологии Краснодарской академии МВД России
Правовые институты в контексте посттрансформационного кризиса
В последнее время внимание исследователей все чаще привлекает проблематика, связанная с поддержанием безопасности общества. В этом отражается специфика текущего периода: закончилась эйфория первого этапа реформ, и теоретики и практики преобразований все глубже осознают тот факт, что безоглядное, недостаточно отрефлексированное стремление к радикальным изменениям в институциональной структуре, культуре и миропонимании общества неизбежно несет с собой угрозу для самого его существования. Глубинная трансформация ставит социальный организм на грань выживания, создает для него пограничную ситуацию, и то, насколько успешно общество из нее выйдет, зависит от стратегической мудрости инициаторов реформ. Еще относительно недавно доминантой социальных перемен в России было стремление к некритическому заимствованию западных институциональных форм и поспешному их внедрению в отечественную практику. Прошедшее десятилетие, однако, показало, что такой подход малоэффективен: сами по себе институциональные формы требуют соответствующего социокультурного контекста, институциональной среды, которые бы позволили им функционировать с оптимальной эффективностью. В противном случае создается напряженность между характером и конфигурацией формальных институтов и реальным контекстом социальных практик, что является рискогенным фактором для общества, приводит к деформации его структур и способствует установлению патологического социального порядка. Именно поэтому нам представляется актуальным обращение к теме, в которой увязаны в единое целое два ряда проблем пореформенного российского общества: проблемы обеспечения социальной безопасности и проблемы успешной институциональной трансформации. Характер, темпы и качество осуществления реформ самым прямым образом влияют на идущие в обществе процессы адаптации к изменившейся социальной реальности, формирование новой стратификационной структуры и специфику устанавливающегося порядка повседневных практик всех уровней, тем самым определяя степень безопасности функционирования общества. Необходимо подчеркнуть также, что более глубокое исследование вопросов социальной безопасности институциональных трансформаций может и должно послужить ключом к решению фундаментальной проблемы современной России – речь идет о выработке единой стратегии развития, которая бы включала в себя как аспекты продуманного продолжения реформ, так и аспекты сохранения социальной идентичности, поддержания безопасности и укрепления стабильности, снижения уровня социального риска. Актуальность такой постановки вопроса определяется и необходимостью творческого развития и переосмысления применительно к реалиям России тех концептуальных схем и направлений, которые, будучи достоянием современной зарубежной социологической мысли, могут и должны плодотворно использоваться на российской почве. Если начальный этап реформ осуществлялся на концептуальной основе монетаризма, экономического и политического либерализма, неоклассических представлений о всесилии рыночной экономики, то в настоящее время возрастает интерес к концепциям институционализма и неоинституционализма, увязывающим процветание и безопасность общества с внутриструктурными институциональными соответствиями и характером институциональной среды, а также к разработкам в области социальной рискологии. Наконец, актуальность поставленной задачи обусловлена необходимостью исследования институциональных факторов развития в современном российском обществе теневых форм социального взаимодействия, когда неформальные отношения и практики обретают устойчивые структуры и тяготеют к институционализации. Последнее представляет серьезную угрозу безопасности общества и настоятельно требует внимания исследователей. Нельзя отрицать тот факт, что в результате длительного периода российских реформ произошли существенные изменения в институциональной структуре общества. По мнению Т.И. Заславской, несмотря на незавершенность институциональных преобразований, нестабильность официальных правил игры и их нелегитимность для большой части акторов, состояние институционального пространства современного российского общества в значительной мере отличается от дореформенного благодаря тем шагам, которые были сделаны по формированию новых экономических и политических институтов. Однако это не значит, что в результате реформ сложилось институциональное пространство того типа, к которому относятся институциональные пространства развитых стран Запада, служившие моделью для реформаторов. Несмотря на присутствие ряда формальных признаков сходства, институциональное пространство пореформенного российского общества глубоко специфично и, как показал Ю. Агафонов , характеризуется качественной неоднородностью, хаотичным переплетением элементов старой и новой институциональных структур. В этом мозаичном пространстве право как социальный институт в наибольшей степени не соответствует заявленным целям реформ и задачам времени, и это находит проявление в общем неправовом состоянии социального пространства, слабостью и деформированностью функционирования правовых институтов. В этой связи Г. Осадчая подчеркивает: на сегодняшний день не оправдались надежды, связанные с формированием гражданского общества, превращением России в правовое государство, которое могло бы гарантировать защиту прав и свобод граждан России, эффективный контроль общества над властью. Рост коррупции, сложившийся симбиоз властных и преступных структур сделали государство в криминальным, а не правовым. Несмотря на формальное расширение личных прав и свобод граждан, либерализация политической власти объективно способствовала ослаблению государства. В результате реальные границы сферы индивидуальных прав и свобод сузились и уровень правовой защищенности населения понизился. Правовые нормы должны быть сгруппированы в организованные комплексы, образующие правовой порядок с особым типом социальных отношений. Понятие правовых институтов как раз и соответствует таким органичным и системным комплексам правовых норм, которые, преследуя одну общую цель, управляют перманентным и абстрактным выражением общественной жизни. Между этими нормами существуют логические и материальные связи. Иеринг по этому поводу писал: «…правила находят для себя в общей цели точку соприкосновения: они окружают ее, как мускулы окружают кости. Связь, взятая из жизни и переданная в юридической форме, может вступать, в свою очередь, в отношения зависимости с другой связью, с которой она контактирует... Таким образом, различные отношения, существующие в жизни, которые... могут быть предметом специального анализа, объединяются вокруг нескольких главных системообразующих единиц: юридических институтов, которые... представляют костяк правовой системы, к которому крепится весь ее материал, составленный из юридических правил». Между правовыми институтами существует действенная взаимосвязь. На уровне этой связи все правовые институты соединяются друг с другом и образуют комплекс - правовую систему. Представляется очевидным, что системные институты российского общества - экономика, политика и право - в ходе реформ подвергались преобразованиям в разной степени и не синхронно, и в настоящее время, по мнению Т. И. Заславской, «в самом удручающем положении находится именно право» . В результате того, что состояние правовых институтов современного российского общества не соответствует состоянию других институтов, правовой контроль остается неэффективным, не успевая за развитием и распространением нелегальных социальных практик. Институциональные перемены в сфере права идут медленнее, отставая от скорости процессов в области повседневных социальных практик, почему распространение неправовых форм взаимодействий не встречает ограничений. Неправовые практики существенно затрудняют жизнь рядовым акторам, которые вынуждены приспосабливаться к условиям существования, фактически не регламентированного правом. Их объем и уровень таковы, что можно говорить о формировании единого неправового контекста жизни современного российского общества и осуществляемых в нем институциональных преобразований. В ходе трансформации постсоциалистических обществ рассогласования в действиях «новых» и «старых» институтов по-прежнему обнаруживают себя, отражаясь в проявляющейся противоречивости переходных процессов. Эта противоречивость не может быть преодолена исключительно путем дальнейшей имплантации новых институтов либерального типа, поскольку они не устраняют среды для воспроизводства прежних неформальных институтов, сохранившихся после начального этапа постсоциалистической трансформации. Наиболее успешно, судя по результатам многолетних реформ в постсоциалистических странах, противоречия общественных трансформаций разрешаются в ходе постепенных реформ посредством создания переходных институтов, функционирующих на базе сочетания различных конституирующих принципов. Согласно представлениям неоинституционализма, социальные институты суть устойчивые по своим очертаниям нормативные конфигурации, обрисовываемые формальными нормами и правилами, требующими неукоснительного исполнения со стороны всех акторов. Содержание формальных норм должно соответствовать возможностям правовых механизмов контроля за их соблюдением, а также неформальным нормам, укорененным в повседневных практиках данного общества. Однако в ходе трансформации институтов происходят независимые друг ои друга изменения формальных норм, механизмов социального и правового контроля и неформальных правил игры. Успешность и безболезненность для общества институциональной трансформации, а также ее безопасность зависят от степени синхронности и согласованности изменений в трех указанных сферах. Их рассогласованность в процессе реформ составляет фактор риска по отношению к социальной безопасности. В. Радаев подчеркивает, что для российского пореформенного общества характерны деформализация формальных норм и замена их в повседневном функционировании неформальными правилами игры, что ведет к образованию институциональных вакуумов. Несовершенство институциональных конфигураций правовой системы, ее внутренняя противоречивость и запутанность, наличие архаических и утративших объект регламентации норм, нехватка норм, необходимость которых диктуется запросами времени, составляют причины возникновения правового вакуума. В последние годы принимались серьезные меры по формированию в России демократического правового пространства. Его основы заложены в новой Конституции и целом ряде вновь принятых кодексов - гражданского, административного, трудового, уголовного, уголовно-процессуального и т.д. Тем не менее это новое, находящееся в становлении правовое пространство до сих пор остается далеко не полным и включает противоречия. Остающиеся лакуны сохраняют широкие возможности ненаказуемости неправовых социальных практик.
В качестве примеров реалий современного российского общества, не нашедших адекватного отражения в законодательстве, Т. Заславская приводит одностороннее доминирование исполнительной власти над представительной и судебной, распространенность «телефонного права», нецелевое расходование государственных средств, недозволенные - с применением физического насилия - методы ведения следствия правоохранительными органами. Имеют место также множественные случаи противоречия вновь принятых законодательных норм ранее принятым и не отмененным, а также противоречия между действующими региональными и федеральными нормами. Наличие противоречащих друг другу норм, регламентирующих один и тот же тип взаимодействий, дает чиновникам и судьям возможность своекорыстного лавирования между применением той или иной нормы. Одна из наиболее острых проблем, мешающих становлению новой правовой культуры в России, новому отношению к государству -незащищенность населения от неправомерных действий отдельных представителей органов исполнительной власти. Инерция авторитарности и администрирования оказалась чрезмерно устойчивой. Из опыта постсоветской России следует, что при отсутствии ответственной государственной власти невозможна защита прав и свобод человека, не может существовать единое экономическое пространство и правовое государство. В стране не реализуются декларированные в новой Конституции Российской Федерации всеобщие права человека и гражданина, зато доминирует практика корпоративизма и номенклатурно-чиновничьих усмотрений. Действует множество установленных общефедеральными и региональными властями особых прав-привилегий, специальных правовых режимов, разного рода льгот и исключений из общих правил - в пользу отдельных лиц, социальных слоев, различных финансовых, экономических и этнических групп, профессий, корпораций и территорий. В целом правовые институты организуют и направляют жизнедеятельность общества, в значительной мере влияют на все социетальные процессы. Но в период глубинных институциональных трансформаций социальное функционирование институтов деформируется. Происходит прорыв в повседневную жизнь общества дисфункциональных явлений, которые, широко распространяясь, подчиняют себе институциональную среду. В условиях дефицита правовых установлений и традиционного для России правового нигилизма рост свободы действий акторов на всех уровнях влечет за собой расширение произвола и беззакония в различных сферах социальной жизнедеятельности. Речь идет о превращении специфических практик “в устойчивый, постоянно воспроизводящийся феномен, который, интегрируясь в формирующуюся систему общественных отношений (экономических и неэкономических), становится нормой (привычными образцами) поведения больших групп индивидов и постепенно интернализируется ими”. По мнению М.
Шабановой, в контексте социальных взаимодействий феномен коррупции (взяточничества, казнокрадства и т.д.) - это двусторонние солидаристические неправовые взаимодействия. На высших уровнях властной иерархии - это солидарность в незаконном расходовании средств бюджета, заключение заведомо убыточных для казны договоров, невыгодная для государства приватизация, принятие законов в интересах определенных групп интересов. В результате резкого слома старых механизмов социального и правового контроля за нарушением норм происходит размывание ориентиров повседневного поведения индивидов и социальные групп. Значительный рост числа должностных преступлений (с учетом их высокой латентности) в период реформ, превращение неправовых взаимодействий в эффективный способ социальной адаптации свидетельствует о прочной интегрированности коррупционных практик в трансформационный процесс. Имеются и другие многочисленные проявления деформации в функционировании правовых и иных социальных институтов. Т. Заславская пишет по этому поводу: «Дедовщина, царящая в армейских частях, массовая коррупция госаппарата, финансовые пирамиды, организованная преступность, проституция, наркобизнес, будучи де-факто приняты обществом, входят в его повседневную жизнь, распространяются вширь и вглубь и, накоаец, превращаются в институты, удовлетворяющие потребности конкретных социальных групп в ущерб остальной части общества». В целом институциональное закрепление теневых социальных практик, в том числе и носящих откровенно неправовой характер, типично для посттрансформационных обществ; в странах, претерпевающих постсоциалистическую трансформацию, на сегодняшний день функционирует множество теневых институтов, лишь часть которых известна правоохранительным органам. Даже в социально здоровых институтах с конструктивными правилами игры зачастую сосуществуют устаревшие, дисфункциональные, социально-деструктивные нормы. Однако в современном российском обществе именно деформированное функционирование формальных институтов стало своего рода «нормой» и правилом. Как показывают исследования, в России идет процесс стихийной, неуправляемой институционализации неправовых (как теневых, так и явных, открытых) практик, угрожающий обществу криминальным перерождением базовых институтов. Это ставит под вопрос не только результативность, но и дальнейшую судьбу либеральных реформ в России. Ибо несоответствия и деформации во внутренней структуре трансформирующихся социальных институтов в современном российском обществе уже сами по себе становятся важными источниками неправовых практик. К таким несоответствиям исследователи прежде всего относят значительное отставание реформирования и в целом серьезное ослабление вертикального контроля со стороны должностных лиц за соблюдением правовых норм; слабость горизонтального контроля за правильностью исполнения правовых норм, воплощенных в новых ролевых ожиданиях, в связи с неактуальностью и нелегитимностью провозглашенных в ходе реформ прав; противоречивость и неустойчивость ролевых ожиданий из-за того, что в условиях кардинальных общественных перемен в институционально-правовых предпочтениях значительных групп соседствуют не всегда совместимые элементы. Кроме внутренних несоответствий и диспропорций в институциональной структуре, важный источник неправовых практик составляет специфика сложившейся в современном российском обществе конфигурации институтов. Именно особенности конфигурации определяют качественное своеобразие институциональной системы вообще и каждого института в отдельности. От них зависит, будут ли в обществе возможности для сокращения или, наоборот, перспективы для расширения и институционализации неправовых практик. Однако, согласно Заславской, при одной и той же конфигурации власти и собственности возможны глубокие различия в качестве представленности и функционирования структур гражданского общества, от которых зависит соблюдение прав человека и их защита от посягательств. При наличии развитых и дееспособных институтов государственной власти возможно недоразвитие гражданского общества, влекущее за собой недемократический, тоталитарный тип управления. Поэтому для успешного прохождения российским обществом фазы реформ необходима синхронность трансформирования или формирования заново основных институтов, что привело бы к сочетанию легитимной, демократичной и эффективной власти; легитимной и в правовом отношении защищенной собственности; зрелого гражданского общества; гарантированных прав и свобод личности. Немаловажным фактором эффективности институтов служит система государственного контроля исполнения законов и норм, а также принуждения социальных акторов к их выполнению. В настоящее время это одно из самых слабых мест институциональной системы российского общества. В России не решены ключевые проблемы, связанные с созданием эффективного и действенного механизма государственной власти, хотя по мере реформирования государственных институтов создается законодательная база, укрепляется федеративная система власти - от центральных исполнительных органов до региональных и муниципальных образований. Начаты реформы судебной системы, прокуратуры и др. Поиски оптимальных для данных условий структуры и функций исполнительной власти идут уже давно. Однако неоднократные попытки сокращения численности аппарата управления, слияния и разделения ведомств не сделали правительство и его органы ни более компактными, ни более эффективными. До сих пор не удалось устранить субъективизм в определении функций и властных полномочий федеральных и региональных органов. За последние десять лет более 200 раз создавались, ликвидировались, перестраивались те или иные органы федерального уровня, перераспределялись их функции. За этот же период сменилось восемь премьер-министров. Контроль государства за соблюдением законов неэффективен, а часто просто отсутствует. Высоко коррумпированные органы правосудия не в состоянии выполнять свои общественные функции. Если мелкий криминал наказывается подчас довольно жестоко, то крупные и крупнейшие преступления, как правило, остаются безнаказанными. Перечень противоречий, существующих в российской правовой системе, можно дополнить указанием на наличие несоответствий между федеральным законодательством и законами субъектов Российской Федерации. Такое несоответствие законов делает неудобной, а в некоторых случаях невозможной нормальную реализацию функций институтов права и отстаивание населением своих гражданских прав. Распространение неправовых социальных практик, в свою очередь, стимулирует дальнейшие институциональные деформации, что проявляется в массовых нарушениях со стороны власть имущих законных личных прав рядовых граждан, в пассивности и слабости социального протеста населения, отсутствии солидарности в защите прав. Общее состояние институционального пространства в этих условиях характеризуется нестабильностью, непрочностью, ненадежностью и изменчивостью, доминированием неформальных норм и правил, определяющих качество социальных взаимодействий. К тому же при этом не могут не воспроизводиться привычные в прошлом административно-командные правила игры. Правовая реформа, призванная обеспечить переход к рыночной экономике, неразрывно связана с кристаллизацией адекватного типа правовой культуры, легитимизацией роли закона именно в качестве организующего принципа социальной жизни, а не инструмента политической власти. В правовом обществе регулятивные функции права распространяются на все сферы социальной жизни, на межличностные, межинституциональные и личностноинституциональные отношения. Конечно, и помимо права эти отношения могут регламентироваться другими регулятивными факторами -традициями, общественным мнением, религией и моралью. Однако современные рыночные экономические отношения, динамичные и всепроникающие, нуждаются в более гибкой системе регуляции, поддающейся развитию и корректировке и соотнесенной в своем повседневном бытии с имеющимися социальными институтами. Этим требованиям отвечает только право как регулятивная система. Даже в настоящее время, в период заявленных демократических преобразований, государство как основной субъект, формирующий право, находится в столь же амбивалентном состоянии, как и другие общественные организации и институты - его явные функции не всегда совпадают с латентными, механизмы социальной защиты и правоохранения пробуксовывают, поэтому к деятельности государства люди относятся скорее критически, чем доверительно. Это необходимо учитывать в процессе анализа правового поведения и правовой культуры россиян, поскольку недоверие и оппозиционность к политике государства является важнейшим источником неправомерного поведения и многочисленных социальных девиаций. Правовая культура может обрести тенденцию к росту только в результате осознанного принятия новой системы ценностей большинством населения, заинтересованного в том, чтобы поддерживать демократические правовые стандарты, обеспечивать гуманистические правила общежития и собственную социально-правовую защиту. Результаты анализа правовой реформы в России обнаруживают наличие определенных противоречий. Правовая система пореформенной России содержит латентные источники конфликта. Проблема состоит в том, что здесь, как было показано, назрели глубокие противоречия, дестабилизирующие социально-правовое пространство и ведущие к развитию конфликта между институтами права и широкими массами населения. Негативную роль в процессе трансформации институтов правовой системы российского общества играют унаследованные от прошлого черты: корпоративная закрытость правовых институтов, использование административного ресурса для давления на судебные и правоохранительные органы, отсутствие у населения устойчивой традиции правового регулирования межличностных и институциональных споров. Последнее свидетельствует о низком общем уровне правовой культуры, который является естественным результатом социализации нескольких поколений в условиях неправового, тоталитарного государства. Отмеченные нами противоречия в правовой системе России не являются по своему характеру допустимыми, совместимыми с нормальным позитивным развитием общества. Необходима направленная деятельность по продолжению институциональных реформ правовой системы. Эти реформы представляются неизбежными в условиях, когда государство, основной гарант стабильности права и правовых отношений, подвергается коренному структурному, идеологическому, экономическому, институциональному и этическому реформированию. В любом случае процесс трансформации институтов всех общественных типов, унаследованных от социалистического прошлого, в институты, в полной мере скоординированные с новыми постсоциалистическими институтами, занимает очень длительный период времени. В частности, продолжительность продолжающихся культурных трансформаций по всей вероятности будет соответствовать периоду жизни целого поколения.