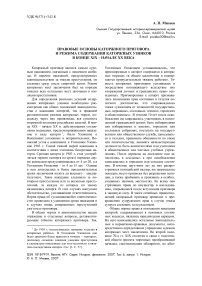Правовые основы каторжного приговора и режима содержания каторжных узников в конце XIX - начале XX века
Автор: Михеев А.П.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 1 т.6, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736823
IDR: 14736823 | УДК: 9(571)+343.8
Текст краткого сообщения Правовые основы каторжного приговора и режима содержания каторжных узников в конце XIX - начале XX века
Каторжный приговор являлся самым суровым наказанием, связанным с лишением свободы. В перечне наказаний, предусмотренных законодательством за тяжкие преступления, он следовал сразу после смертной казни. Режим каторжных мест заключения был на порядок тяжелее всех остальных мест заточения и изоляции преступников.
Для определения реальных условий содержания каторжных узников необходимо рассмотрение как общих положений законодательства о наказании каторгой, так и правовой регламентации режима каторжных тюрем, поскольку через них проявлялась вся сущность тюремной политики российских властей. В конце XIX – начале XX в. действующими уголовными кодексами, предусматривающими наказание в виде каторги 1 , были Уложение о Наказаниях уголовных и исправительных, Воинский устав о наказаниях и Уголовное Уложение 1903 г. Самой тяжкой мерой наказания в соответствии с ними считалась бессрочная каторга. Срочная каторга (с 1903 г. стал употребляться термин «каторга на срок») первыми двумя кодексами предусматривалась от 4 до 20, а в Уголовном Уложении – от 4 до 15 лет. Однако в нем допускались и более продолжительные сроки заключения вплоть до высшего – двадцатилетнего. Такое наказание следовало за повторное преступление или за несколько преступлений, за каждое из которых по закону назначалась каторга. В этих случаях наступали обстоятельства, усиливающие ответственность. Норма права об «усиливающейся ответственности» приводила к удлинению срока наказания и в случаях вновь совершенных преступлений уже после приговора.
В общих чертах в законодательстве нашли отражение и отдельные вопросы, регламентирующие отбытие каторжного приговора. Так,
Уголовным Уложением устанавливалось, что приговоренные к каторге содержатся в каторжных тюрьмах «в общем заключении и подвергаются принудительным тяжким работам». Тяжесть каторжных приговоров усиливалась и посредством возникающего вследствие них «поражения личных и гражданских прав» осужденных. Приговоренные к каторге признавались лишенными прав состояния и титулов почетного достоинства, что сопровождалось также «удалением от должностей государственных, церковных, сословных, земских, городских и общественных». В течение 10 лет после освобождения им запрещалось участвовать в полноценной гражданской жизни: быть избирателями или избираемыми в земских, городских или сословных собраниях, поступать на государственную или общественную службу, записываться в гильдии, принимать обязанности по опеке или попечительству, занимать начальствующие должности, быть воспитателями или учителями в общественных или частных учебных учреждениях. После перевода на поселение они зачислялись в ссыльные, а при освобождении записывались в городское или сельское состояние. В течение двух-пяти лет на них распространялся полицейский надзор, им запрещалось покидать место приписки без разрешения полиции, а также прибывать и проживать в особых, указанных законом, местностях. Ко всему они утрачивали права по имуществу и наследованию, открывшиеся после вступления приговора в законную силу. В части семейных правоотношений каторжный приговор приводил к прекращению супружеских прав в случае отказа супруга следовать за осужденным.
Общие нормы права в отношении наказания каторгой, содержавшиеся в основных уголовных кодексах, являлись юридическим каркасом. На него нанизывались остальные законодательные и нормативно-правовые документы, непосредственно определявшие управление и режим каторжных мест заключения. Во второй половине 70-х гг. XIX столетия в связи с подготовкой общего проекта тюремных преобразований началась систематизация обширного, но абсо-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2007. Том 6, выпуск 1: История © А. П. Михеев, 2007
лютно разрозненного законодательства о тюрьмах. Главным результатом этой работы стало создание в ведомстве МВД центрального органа – Главного тюремного управления, на которое в дальнейшем было возложено управление местами заключения, а также совершенствование и упорядочение тюремного законодательства.
Если оценивать деятельность ГТУ по бюрократическим меркам, то ее объем просто огромен. За все время его существования было подготовлено несколько сот законов и тысячи циркуляров, но, несмотря на это, вопросы тюремного режима не получили в них достаточной правовой констатации. Его основы по-прежнему продолжали определяться целым рядом разнообразных документов: законодательными актами, циркулярами, предписаниями, постановлениями, инструкциями, исходящими как от ГТУ, так и от других государственных органов, причастных к проведению карательной политики. Основные из них были представлены Уставом о содержащихся под стражею, Уставом о ссыльных и Общей тюремной инструкцией от 28 декабря 1915 г., которая фактически начала действовать с марта 1912 г. Они формировали собой своеобразный кодекс «жизнедеятельности» масштабного ссыльно-тюремного хозяйства империи. Однако в отношении каторги их значение было не столь велико. Подавляющее количество их статей и положений регламентировали тюрьму и ссылку, отведя непосредственно каторжным тюрьмам очень незначительное место. Так, Устав о содержащихся под стражею 1890 г., определявший порядок заключения в местах постоянного лишения свободы, содержал всего три статьи о каторжных тюрьмах. Небогат законоположениями относительно самих мест заключения и в определении правовых норм тюремного режима был и Устав о ссыльных [2. С. 21]. Исходя из этого основными документами, регламентирующими деятельность каторги, являлись подзаконные акты, т. е. циркуляры, постановления, распоряжения министерств внутренних дел и юстиции, которым в разное время было подотчетно ГТУ.
Тюремный режим – это совокупность требований, предъявляемых к арестантам, правил и норм их содержания в течение всего срока каторжного приговора. Итак, что же означало для заключенных отбытие каторжного наказания с точки зрения закона? На основании приговоров каторжане разделялись на три категории. К первой принадлежали осужденные к каторге без срока или при «усиливающейся ответственности» на сроки свыше 20 лет; ко второй – на сроки от 8 до 20 лет и к третьей категории – осужденные на сроки от 4 до 8 лет. По прибытии в тюрьмы они должны были распределяться по корпусам с учетом сроков наказания, а распре- деление по камерам зависело от начальника тюрьмы.
По роду содержания каторжане делились на два разряда – испытуемых и исправляющихся. Все арестанты разряда испытуемых, в том числе и из привилегированных сословий, должны были содержаться в кандалах. Время пребывания в этом разряде зависело от срока приговора. Для осужденных в каторгу без срока оно составляло 8 лет, для осужденных к работам более чем на 20 лет – 5 лет, от 15 до 20 – 4 года, от 12 до 15 лет – 2 года, от 6 до 12 лет – полтора года, от 4 до 6 – год, от 2 до 4 лет – 6 месяцев и на время менее двух лет – 3 месяца. Только после отбытия исправительного срока можно было рассчитывать на снятие оков и перевод в отряд «исправляющихся». Существовала еще одна норма, сокращавшая общий срок приговора. На основании ст. 309 Устава о ссыльных нахождение в отряде исправляющихся при одобрительном поведении, т. е. без нарушения режима, срок наказания мог быть сокращен на 2 месяца за каждый оставшийся год заключения после прекращения испытуемого срока. Так, например, с 20 лет набегало «целых» 2 года и 8 месяцев 2 .
Суровость каторжного приговора ощущалась сразу после его оглашения в суде. Выход на этап сопровождался бритьем половины головы и заковыванием в кандалы. Если первое наказание, унизительное по форме и морально гнетущее, было отменено в 1903 г., то наложение кандалов сохранялось до падения царизма. В этой части отмена одних норм «дисциплинарного воздействия» на каторжных уравновешивалось введением новых, порой не менее тяжких и болезненных.
В сентябре 1881 г. ГТУ отменило применение на этапе длинных цепей, к которым прикреплялись по шесть арестантов. Это был один из самых архаичных способов связки каторжных с целью предупреждения их побегов. Однако спустя четверть века, в 1906 г., Совет министров одобрил предложение министерства юстиции о введении новых предупредительных связок, используемых при пересылке арестантов, под предлогом предупреждения побегов. Против этого предложения возражал министр финансов, который заметил, что введение предупредительных связок «будет встречено общественным мнением крайне несочувственно, так как они заключают в себе меры произвольные, неоправданные действительными потребностями дела» 3. По его мнению, обсуждаемый проект представлялся, в общем, более суровым, чем соответствующие положения Устава о ссыльных 1822 г., и дающим широкий простор произволу тюремным властям в наложении свя- зок на арестантов. Тем не менее Совет министров поддержал предложение министерства юстиции, посчитав, что предупредительные связки принесут несомненную практическую пользу как один из способов противодействия побегам.
Ручные и ножные кандалы, в быту называемые арестантами «браслетами», усугубляли чувство несвободы, но кроме этого они затрудняли движение, вызывали большие неудобства, приводили к потертостям конечностей, ранам, болезненным ощущениям. В отчете о своей служебной командировке по сибирским тюрьмам в 1910 г. действительный статский советник чиновник ГТУ И. П. Сементовский отмечал, что «кандальный срок» переносится арестантами тяжело, так как сами кандалы чрезвычайно неудобны для ношения: «цепи коротки, белье и одежду при таких кандалах снимать весьма затруднительно; ручных подкандальников нет, есть руками из общей чашки при короткой цепи очень трудно; руки от долгого ношения таких кандалов отекают…» 4 .
Начало XX в. ознаменовалось новой волной законотворческой деятельности в части регламентации каторги. Однако схема дисциплинарной ответственности в отношении арестантов, установленная законом от 23 мая 1901 г., сохранила в силе прежнюю методологию, характерную еще для первой половины XIX в. В этом законе повторялись статьи, изданные в 1839 г. Так, ст. 402 Устава о содержащихся под стражею сохраняла за начальниками мест заключения права повторного наложения дисциплинарных взысканий без определения их минимального срока. Таким образом, дисциплинарное наказание по желанию тюремной администрации могло приобрести характер постоянного [2. С. 22]. В соответствии с законом 1901 г. устанавливался следующий перечень наказаний: лишение прогулок, переписки, права чтения, распоряжения заработком, заключение в карцер и наказание розгами. Максимальный срок пребывания в карцере в каторжных тюрьмах составлял один месяц при температурном режиме не ниже 13–15 °С.
При нарушении дисциплины или совершении преступления в местах отбытия наказания каторжан ждало не только удлинение срока, но и другие сопутствующие наказания: приковывание к тачке, наказание розгами, наложение оков. Практика их отмены с учетом изменения общих подходов к тюремному заключению была дозированной. Еще до 1903 г. из признаков каторжного наказания было исключено клеймение заключенных, всегда считавшееся атрибутом средневековой тюремной политики. Наказание розгами по-прежнему налагалось начальниками мест заключения, тюремными инспекторами и губернаторами. Максимальное наказание розгами (100 ударов) назначаться должно было лишь с разрешения высшей административной власти на местах [3. С. 9; 4. С. 58–60].
Большое значение тюремные власти отводили вопросам религиозного воспитания арестантов. Тюремный священник принимал непосредственное участие в установлении и поддержании внутреннего распорядка. Основой формирования нравственности признавались и тюремные библиотеки. В 80-х гг. XIX в. ГТУ стало уделять им гораздо больше внимания, чем раньше. Комитетом грамотности при Императорском вольно-экономическом обществе был подготовлен список различных по тематике книг, рекомендованных для чтения арестантам. В него вошли 122 книги: 28 по богослужебной тематике, 30 – по словесности, а остальные в тематическом отношении были по истории, географии, естествознанию и сельскому хозяйству. Авторами большинства из них являлись известные литераторы: К. Бестужев-Рюмин, Д. Григорович, А. Погоский, С. Аксаков, С. Максимов, И. Тургенев, Л. Толстой, А. Петрушевский и др. 5
В марте 1905 г. ГТУ разработало рекомендации по использованию правил «О тюремных библиотеках и арестантских чтениях». В них отмечалось, что в тюремные библиотеки могут допускаться книги и периодические издания, не изъятые из обращения в публичных библиотеках и общественных читальнях. Помимо официальных каталогов и списков книг в тюрьмах разрешалось пользоваться и частными каталогами, но только теми, которые «приноровлены к известному уровню читателей или систематизируют отдельную какую-либо отрасль знаний, или… являются руководствами для устройства библиотек в других учреждениях». Периодические издания, посвященные обсуждению текущих событий, выдавались для чтения арестантам по истечении шестимесячного срока со дня их выхода. Научно-популярные и художественные периодические издания допускались в российские тюрьмы беспрепятственно. В этих же рекомендациях указывалось, что «высшее наблюдение за составлением и деятельностью тюремных библиотек возлагалось на губернатора, а общее руководство ими осуществлялось губернским тюремным инспектором или лицом, его заменяющим» 6 . Таких же положений в отношении тюремных библиотек и арестантских чтений придерживалась и «Общая тюремная инструкция» 1915 г., запрещавшая в воспитательных беседах касаться событий текущей политической и общественной жизни.
При долгосрочных наказаниях важным для каторжных узников становился вопрос об орга- низации их труда. ГТУ отчетливо понимало, что «праздность» и отсутствие условий для занятий производительным трудом является дестабилизирующим фактором. Но были и другие причины, заставлявшие тюремных чиновников способствовать организации арестантских работ. Прежде всего необходимо было добиться удешевления содержания каторжных заключенных и ужесточения самого наказания, поскольку на труд возлагалась функция их перевоспитания. Рост пенитенциарной системы заставлял серьезно взяться за решение этой проблемы.
В январе 1886 г. Государственным советом были утверждены новые правила об арестантских работах. Труд заключенных становился обязательным. Циркуляр ГТУ от 25 апреля этого же года предписывал тюремному начальству впредь не ставить эти работы в зависимость от желания заключенных. В нем отмечалось: «Труд при разумном тюремном устройстве имеет значение коренного средства дисциплины, которое может воздействовать на преступную волю человека и поэтому современные тюремные учреждения должны всеми средствами стремиться к наиболее правильной организации труда заключенных» 7 . В зависимости от характера заключения новые правила определяли количество рабочих часов, обязательных для арестантов, указывали дни, когда они освобождались от хозяйственных работ. Для ссыльнокаторжных христианских исповеданий из разряда испытуемых такими были все воскресные дни, первые два дня Рождества Христова, первые три дня Светлого Христова Воскресения, три дня говенья в дни Священного коронования императора и дни рождения императора, императрицы и наследника престола. Для каторжных разряда исправляющихся к названным выше дням добавлялись день Нового Года, а также праздники Богоявления, Вознесения, Сошествия Святого Духа, Благовещения и последние три дня Страстной недели. Интересно в этой связи то, что для арестантов иных вероисповеданий праздничные дни устанавливались с учетом их религий, но таким образом, чтобы их количество не превышало количества дней христианских праздников. С разрешения ГТУ могли устанавливаться и дополнительные нерабочие дни, например для храмовых праздников, особо почитаемых в местах расположения тюрем 8 .
Для сохранения карательного значения труда за тюремной администрацией сохранялось право принудительного характера назначения на работы. Труд заключенных был платным, каторжане получали за свою работу 1/10 часть от заработанных средств. К тому же он рассматривался как фактор, стабилизирующий тюремные отношения. Общий взгляд всего тюремного ведомства на него удачно выразил Н. Лучинский в 1904 г., заявивший, что «та тюрьма, где каждый арестант привязан к мастерской, меньше всего должна опасаться арестантских беспорядков, и если они произошли, можно смело смотреть им в глаза, зная, что они, во всяком случае, будут локализованы» 9.
Борьба с «праздностью и леностью» в тюрьмах носила комплексный характер. В сентябре 1887 г. появился циркуляр ГТУ, в котором указывалось на необходимость выноса из арестантских камер постельных принадлежностей на весь день до отбоя. Этот циркуляр являлся переходной мерой для тех тюрем, где арестантский труд «не достиг еще полного развития», а замена нар подъемными койками сдерживалась отсутствием необходимых для этого средств 10 .
Нормативными документами, регламентирующими питание заключенных, служили «Табели о деньгах на продовольственное содержание арестантов в местах заключения гражданского ведомства». Они ежегодно утверждались МВД по представлениям ГТУ с учетом сложившихся на местах рыночных цен на основные продукты питания. При этом существовал нормативно закрепленный принцип различной отпускной стоимости пайка для заключенных из простых и привилегированных сословий. Если в 1902 г. на заключенных из бывших дворян приходилось 10 коп., на почетных граждан – 7,5, бывших чиновников (12 класса) – 14, то на всех остальных – 6 коп. 11 Интерес к этим цифрам определен тем обстоятельством, что законодатель проявлял явное пренебрежение к правовым нормам, облегчая осужденным в каторгу из привилегированных слоев общества отбытие приговора. Питание в тюрьме всегда являлось одним из определяющих факторов выживания.
Приведенный выше перечень основных правовых ограничений определял в общих чертах режим каторжного заключения в последние десятилетия царской власти. Эти нормы отражали отношение правоохранительных ведомств и общества к уголовно-исправительным основам тюремного режима. Ведущей тенденцией в реформировании пенитенциарной системы в последнюю четверть XIX – начале XX в. уже стала являться гуманизация заключения. Ее смысл состоял во введении в практику каторжного заточения элементов, существенно облегчающих отбытие самого наказания. Тюремное реформирование было направлено на обеспечение условий, способствующих перевоспитанию преступников. Такое развитие российских тю- рем признавалось желательным, соответствующим нормам правового государства.
Между тем, каким было конкретное проявление этих изменений на уровне отдельных тюрем, насколько условия содержания соответствовали правовым нормам, является основополагающим для оценки реальной ситуации в них. Действительность нередко бывала далекой от желаемых результатов, даже и тогда, когда процесс их достижения был облечен в необходимые юридические нормы и правила.
Материал поступил в редколлегию 19.10.2006