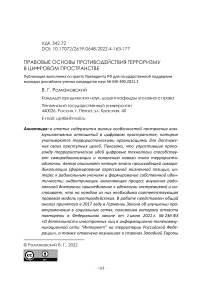Правовые основы противодействия терроризму в цифровом пространстве
Автор: Романовский В.Г.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 4, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье содержится анализ особенностей построения коммуникативных отношений в цифровом пространстве, которые учитываются террористическими организациями для достижения своих преступных целей. Показано, что упростившие пропаганду террористических идей цифровые технологии способствуют саморадикализации и появлению нового типа террориста- одиночки. Автор описывает четыре этапа происходящей саморадикализации (формирование агрессивной жизненной позиции; интерес к радикальным учениям и формирование собственной идентичности; индоктринация, включающая процесс внушения радикальной доктрины; присоединение к идеологии экстремизма) и настаивает, что на каждом из них необходима соответствующая правовая модель противодействия. В работе представлен общий анализ принятого в 2017 году в Германии Закона об улучшении правоприменения в социальных сетях, положения которого отчасти повторены в Федеральном законе от 1 июля 2021 г. № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на территории Российской Федерации», а также отмечена возникшая в странах Западной Европы тенденция к усилению контроля за распространением информации в социальных сетях и критика подобного рода инициатив правозащитными организациями из-за введения дополнительных ограничений таких институтов, как неприкосновенность частной жизни и свобода слова.
Социальные сети, террорист-одиночка, саморадикализация, противодействие терроризму, кибертерроризм
Короткий адрес: https://sciup.org/147239709
IDR: 147239709 | УДК: 342.72 | DOI: 10.17072/2619-0648-2022-4-163-177
Текст научной статьи Правовые основы противодействия терроризму в цифровом пространстве
С оциальные сети имеют сравнительно недолгую историю развития. На‐ пример, самая популярная в мире сеть Facebook* была запущена в начале 2004 года, и тогда ее будущее вызывало скептицизм. Российская сеть «Одноклассники» появилась в 2006 году. Изначально предполагалось, что соцсети станут основой новых коммуникаций и сохранят относительно узкую направленность. Однако в течение нескольких лет они перевернули формат общения, переведя в киберпространство практически все возможные межличностные связи.
Социальные сети используются:
– в экономике. Более того, многие электронные площадки для торгов‐ ли приобретают свойства соцсетей, включая в интерфейс обратную связь, возможность обсуждения потребительских свойств товаров, выставление «лайков» и многие другие параметры. Мировые лидеры современного биз‐ неса так или иначе связаны с этими технологиями. В частности, капитализа‐ ция китайской компании Alibaba Group, специализирующейся на интернет‐ торговле, в 2020 г. превысила 600 млрд долларов США;
– в политике. Каждый политический лидер выступает одновременно активным блогером. По настоящее время многие аналитики связывают по‐ беду Д. Трампа на президентских выборах в США в 2016 году с его активно‐ стью в социальных сетях (около 35 млн подписчиков в Facebook и 25 млн в Instagram ∗ ). В российской юридической литературе выдвигалась идея «госу‐ дарства‐платформы», в рамках которой все общение граждан и публичных институтов переводится в цифровой формат1;
– в процессе обмена информацией. Первоначально обмен происходил между самими пользователями, чаще объединенными либо социальными связями, либо каким‐то интересом, пока большинство новостных агрегаторов не перевели свою деятельность в различные веб‐каналы. Благодаря этому информация сегодня мгновенно распространяется по всему миру. Возмож‐ ность получения комментариев от пользователей способствует формирова‐ нию общественного мнения, причем гораздо эффективнее, чем через тради‐ ционные средства массовой информации.
∗ Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской. Деятельность компании запре‐ щена на территории Российской Федерации.
Многофункциональность социальных сетей была практически сразу оценена и преступными элементами. Мошенничество, иные противоправные деяния, связанные с имуществом и денежными средствами, стали неким по‐ бочным эффектом развития интернет‐технологий. В рамках данного исследо‐ вания хотелось бы обратить внимание, что возможностями киберпространст‐ ва воспользовались и международные террористические организации.
Цифровой мир, создавая преимущества для построения коммуникаций вне национальных границ, предоставил путь к кооперации и для преступни‐ ков, получивших глобальный доступ к любому пользователю. Традиционные методы агитации и вербовки адептов сопряжены со значительными рисками, поскольку требуют распространения печатной продукции, бесед «глаза в гла‐ за», знакомства с уже реальными сторонниками. Такие каналы связи уязви‐ мы и быстро отслеживаются правоохранительными органами. Размещение нужной информации в цифровой среде, к тому же в разветвленных соцсетях, которых насчитывается не один десяток, требует дополнительных усилий и навыков. Система хештегов позволяет быстро ознакомиться с размещен‐ ными данными необходимому числу пользователей, знакомых с этим «клю‐ чом». Практика показывает, что администраторы различных социальных се‐ тей оперативно реагируют на преступный контент, удаляя его в течение не‐ скольких десятков минут, но даже этого времени оказывается достаточно для «расползания» информации в мировом пространстве.
Сегодня используются разнообразные методы воздействия на сознание человека, чтобы обеспечить последовательный переход его к определенной системе ценностей. Даже общеизвестные факты с помощью различных функ‐ ций социальных сетей могут получать множество субъективных интерпрета‐ ций, что позволяет создавать нужные нарративы. Благодаря этому внешне нейтральный контент может формировать необходимую систему взглядов, которая при уже дополнительном воздействии способствует идентификации с террористическим движением. В российской2 и зарубежной3 юридической науке сегодня активно обсуждается феномен саморадикализации, когда не требуется индивидуального обращения к конкретному пользователю. Созда‐ ется такая система наполнения интернет‐ресурсов, которая доступна из любой точки мира. Главная цель на первоначальном этапе – заинтересовать в озна‐ комлении с информацией целевого содержания. Дальнейшее движение пользователя происходит по определенному алгоритму, когда каждый последующий шаг означает усиление приверженности той или иной террористической идеологии.
Саморадикализация служит основой для появления такого феномена, как «волк-одиночка» (или «одинокий волк») - террорист, идущий на совершение преступного деяния вне конкретного контакта с террористической ор‐ ганизацией. Более того, исследователи отмечают, что у террористов-одиночек зачастую происходит смешение различных идеологических установок (вплоть до формирования «каши» из пропагандистских концепций, когда сложно выявить даже приверженность тому или иному конкретному тече‐ нию), и это, безусловно, усложняет поиск постепенно формирующихся преступников. Задачи террористической организации в такой ситуации сводятся к созданию необходимых инструкций по подготовке теракта (от сборки самодельных взрывных устройств до пошагового плана преступления), которые могут находиться в свободном доступе в цифровом пространстве. «Одинокому волку» не требуется посредник (или интерпретатор) в получении информации, благодаря новым технологиям обеспечивается прямой доступ к интересующим его сведениям. Анализ подготовки массового убийства «норвежским стрелком» А. Брейвиком показал, что для покупки оружия, сборки взрывного устройства и приобретения необходимого оборудования он пользовался доступными электронными сервисами для планирования по‐ ездок, онлайн-торговли, аренды помещений и др.4
Меняется и профиль потенциального преступника. С учетом того, что к социально опасному контенту имеют доступ любые страты общества, профайлинг осуществляется с поправкой на анализируемую группу5. Такой преступник не погружается полностью в свой новый вид деятельности, не разрывает связи с обществом, не уходит в подполье и не грезит романтикой партизанского движения. Его конспирологические навыки ограничиваются общими познаниями. Раскрытие преступника на подготовительной стадии может произойти случайным образом, и связано это именно с тем, что такой человек не ведет активной противоправной деятельности. К тому же у него
РОМАНОВСКИЙ В. Г._____________________________________________________________ нет тесных связей с какой‐либо террористической организацией, даже сами контакты зачастую минимизируются и носят анонимный характер6. Общение в чатах, телеграм‐каналах, на форумах может происходить под разными ни‐ ками и не иметь жесткой привязки к одному движению. Система хештегиро‐ вания позволяет всем участникам моментально перестраивать свои связи и вновь объединяться при ликвидации интернет‐сообщества администрато‐ рами телекоммуникационных систем. К тому же не каждый участник такого сообщества способен на совершение конкретных действий, многие ограни‐ чиваются ролью «диванных критиков» и никогда не пойдут на активное пре‐ ступление, тем более связанное с насилием.
Саморадикализации способствуют особенности цифрового общения, что позволяет некоторым исследователям винить в новом явлении саму тех‐ нологию. Дело в том, что коммуникации с помощью Интернета позволяют создать эффект «эхо‐камеры» (ее еще называют «фильтрующим пузырем»), когда потенциальный экстремист, проводя все основное время в виртуаль‐ ном мире, общается исключительно с единомышленниками, усиливая тем самым свои идеологические установки7. В любом случае специфика построе‐ ния коммуникативных связей служит основой для стадийного процесса пере‐ хода от критически настроенного обывателя к террористу‐одиночке8. Стира‐ ется грань между онлайн‐ и офлайн‐мирами, где апогеем можно считать трансляцию теракта в прямом эфире9. Именно Интернет формирует аксиоло‐ гию молодого поколения, возложив на себя функции, которые традиционно выполнялись литературой, печатными средствами массовой информации, педагогами во время обучения и в процессе межличностного общения. По‐ коление Z легко спровоцировать на определенные действия с помощью по‐ вторяющихся сообщений в социальных сетях, нацеленных на демонизацию противника10.
Приведенные обстоятельства обусловливают смену стратегии и тактики противодействия террористическим угрозам. Необходимо, кроме того, учи‐ тывать, что главная задача правоохранительных органов состоит в предот‐ вращении преступных деяний. Эффективность таких действий повышается на ранних стадиях саморадикализации, когда возможны разрушение «эхо‐ камер» и разрыв с искусственно формируемым виртуальным миром. В связи с этим каждое государство оказывается заинтересованным в поиске новых форм государственного регулирования основных средств цифрового обще‐ ния. Во многих странах обсуждаются законы, направленные на воздействие на телекоммуникационных операторов основных мировых соцсетей. Учиты‐ вается и тот фактор, что они принадлежат транснациональным корпорациям, которые заинтересованы в отсутствии жестких национальных правил. В Рос‐ сийской Федерации тоже последовательно формируется обновленная пра‐ вовая база, нацеленная на отношения, которые складываются в онлайн‐ пространстве. На протяжении нескольких лет вносятся значимые изменения в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149‐ФЗ «Об информации, инфор‐ мационных технологиях и о защите информации». Некоторые из них дока‐ зали свою необходимость и востребованность. Часть новелл впоследствии утратила силу, как, например, «Закон о блогерах» – Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 97‐ФЗ: в течение непродолжительного времени стала понят‐ на невозможность его эффективного применения. С другой стороны, можно привести постоянно критикуемый «пакет Яровой» (федеральные законы от 6 июля 2016 г. № 374‐ФЗ и 375‐ФЗ11), который предъявил ряд требований к операторам Интернета по хранению метаданных пользователей. Подобные дискуссии проходили и в других странах, где можно наблюдать принятие аналогичных мер. Например, в Великобритании в условиях жесткой критики принималась «Хартия снуперов» – закон от 29 ноября 2016 года о полно‐ мочиях на проведение расследования12. Кстати, чтобы уйти от длительных обсуждений, «Хартия снуперов» принималась также в сжатые сроки.
Регулирование социальных сетей в каждой стране – особая тема, обла‐ дающая повышенной чувствительностью. Во‐первых, каждый пользователь, ведя онлайн‐общение, имеет завышенное представление о степени защиты содержания собственного аккаунта, поэтому любое государственное вмеша‐ тельство воспринимается им как покушение на свои права и конфиденциаль‐ ность. Хотя здесь следует с большей настороженностью относиться к общему режиму защиты, который должен обеспечиваться не только оператором свя‐ зи, но и самим пользователем.
Во‐вторых, основные социальные сети модерируются транснациональ‐ ными корпорациями. В цифровом пространстве гораздо сложнее обеспечить национальный режим, который может легко преодолеваться несложными техническими методами. Поэтому любое требование, закрепленное в зако‐ не, должно прогнозировать и реальность его исполнения. Это связано и с технической стороной. В течение трех лет Роскомнадзор вел «позиционную войну» с мессенджером Telegram, которая в конечном итоге завершилась фактическим признанием невозможности его полной блокировки.
В‐третьих, социальные сети в современном мире позиционируются как один из ключевых инструментов прямой демократии, способствуют равенст‐ ву и прогрессу. В центре подобных тезисов находится возможность каждого вне государственного давления высказывать свою позицию и доводить ее до широкого круга лиц13. Цифровые технологии изменили принципы межлично‐ стных коммуникаций, устранив политические и географические различия. Ранее материалы, получавшие всеобщее обнародование, подвергались оп‐ ределенной фильтрации. Ее могли осуществлять и государственные цензоры (при наличии официально закрепленной цензуры), и политические лидеры (определявшие допустимость опубликования тех или иных данных), и редакторы СМИ (что разделяло их по политическим и иным предпочтени‐ ям). Сегодня любой контент может вмаксимально короткое время получить многомиллионную аудиторию14.
Представленные обстоятельства обусловливают особый подход к про‐ тиводействию терроризму в социальных сетях. Так, отмечается, что процесс саморадикализации состоит из нескольких этапов:
-
1) формирование агрессивной жизненной позиции;
-
2) интерес к радикальным учениям и формирование собственной иден‐ тичности;
-
3) индоктринация, которая включает процесс внушения радикальной доктрины;
-
4) присоединение к идеологии экстремизма.
На каждом из этапов должна существовать самостоятельная методика противодействия, учитывающая следующие сложности:
-
– феномен радикализации имеет транснациональный характер;
-
– отсутствует единое описание профиля будущего преступника;
-
– потенциальные радикалы присутствуют во всех стратах общества, вне зависимости от уровня образования, доходов, религиозной идентичности и других показателей;
– процесс саморадикализации на завершающих этапах всегда упирает‐ ся в поиск единомышленников для формирования «группового мышления». Психологи указывают, что именно тогда происходит катализация радикаль‐ ного мышления18.
Каждое государство обеспокоено складывающейся ситуацией, и уже есть определенный опыт правового регулирования. Обратим внимание на Германию, где с 2017 года действует Закон об улучшении правоприменения в социальных сетях (Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerke19, NetzDG). Еще при обсуждении данного закона, который по настоящее время не имеет единой поддержки в немецком обществе, высказывались его ключевые цели. В числе первых назывались следующие: отказ от монополии основных гигантов индустрии (распространение на них национальных правил регулирования) и противо‐ действие террористическим угрозам20.
Закон устанавливал трехлетний срок для оценки его эффективности и технических возможностей достижения запланированного результата. В 2020 году общее мнение представителей государства основывалось на поло‐ жительном восприятии. Подтверждением этому служит принятие в закон до‐ полнений, касающихся предотвращения насилия в Сети (Закон о внесении по‐ правок от 28 июня 2021 г.). На сайте федерального правительства опубликовали пресс‐релиз, в котором прямо подчеркивается положительный опыт защиты прав пользователей социальных сетей, который не нуждается в радикальном пересмотре. В обоснование поправок сделаны ссылки на нападения на должно‐ стных лиц, а также на расистские атаки на почве национальной ненависти21.
Закон от 28 июня 2021 года конкретизирует требования к размещению правил подачи жалоб на сайте администратора социальной сети; уточняет содержательные характеристики полугодового отчета операторов платфор‐ мы по рассмотрению поданных жалоб (с закреплением публичности самих отчетов); закрепляет специальные права лиц, пострадавших от размещения незаконного контента (в частности, право на получение информации от опе‐ ратора по порядку рассматриваемой жалобы и предоставление данных об авторе незаконного контента); стимулирует создание негосударственного арбитража для досудебного разрешения споров, связанных с размещением в соцсети видеофайлов.
Поправки не нашли единодушия среди депутатов бундестага. Фракции Свободной демократической партии «Альтернатива для Германии» голосова‐ ли против, а Левая партия и «Альянс 90 / Зеленые» воздержались. «Зеленые» пытались включить в закон дополнения о необходимости соблюдения свобо‐ ды мнений (в частности, предусматривалось быстрое восстановление ошибоч‐ но удаленного контента, реализующего свободу слова), однако парламентское большинство отклонило это предложение22. К тому же Закон от 28 июня 2021 года был оспорен (иски поданы в конце июля) в Административном суде Кёль‐ на компаниями Google и Facebook, утверждающими, что немецкое законода‐ тельство противоречит общим правилам, принятым в Евросоюзе23.
NetzDG предусматривает понятие запрещенного контента, но специфи‐ ческим образом – ссылками на статьи Уголовного кодекса ФРГ, которые уста‐ навливают ответственность за распространение той или иной информации.
К таковым относятся (приведем некоторые из них): публичное подстрека‐ тельство к совершению уголовного преступления (§ 111), создание преступ‐ ных (§ 129) и террористических организаций (§ 129a), предоставление дет‐ ского порнографического контента (§ 184b в сочетании с § 184d), оскорб‐ ление (§ 185) и клевета (§ 186 и 187), фальсификация доказательств (§ 269). Перечень составов преступлений довольно объемен24.
С момента принятия закона в гражданском обществе не утихает его критика. Можно выделить следующие направления обсуждений:
-
1. Ссылка на статьи Уголовного кодекса ФРГ позволяет идентифициро‐ вать преступность размещенной информации, но вне предъявленных офици‐ альных обвинений, принятия приговора судебной инстанцией. Уголовное разбирательство растянуто во времени, имеет свои стадии, где завершающий этап – вступление обвинительного приговора суда в законную силу. Однако не следует забывать, что судебное разбирательство может заканчиваться и оправдательным решением. Между тем при удалении контента социальная сеть должна ссылаться на статью Уголовного кодекса, как бы фиксируя этим преступность совершённого деяния. Даже в рамках последующего разбира‐ тельства, вне обращения к правоохранительным органам, может быть при‐ знана неправомерность удаления информации. Здесь же устанавливается упрощенный подход, заранее криминализирующий действия, которые тако‐ выми могут и не быть25.
-
2. Внутренняя политика ключевых операторов соцсетей включает более широкий перечень сомнительного контента, который удаляется ими само‐ стоятельно вне наличия жалобы. Например, условия использования сети Instagram26 запрещают доступ всем лицам, осужденным за совершение пре‐ ступлений сексуального характера. Условия использования платформы Meta27 (распространяются на Instagram) в одном из пунктов устанавливают запрет «на обработку данных платформы с целью осуществления или поощ‐ рения дискриминации людей на основании личных качеств, в частности ра‐ сы, этнической принадлежности, цвета кожи, национальности, вероиспове‐ дания, возраста, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности,
___________________________________________________ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ семейного положения, инвалидности, состояния здоровья, генетических за‐ болеваний и прочих характеристик, охраняемых применимыми законами, нормативными правовыми актами или правилами Meta». Правила операто‐ ров реализуются на протяжении многих лет, совершенствуются, публикуются для всеобщего ознакомления и носят единый характер для всех стран мира28. Введение национальных правил фрагментирует цифровое пространство, подвергая сомнению принцип универсальности. Однако если по отдельным моментам, не имеющим принципиального характера, не возникает жестких споров, то внедрение элементов цензуры вызывает сопротивление.
В Великобритании в течение всего 2021 года активно обсуждался про‐ ект закона о безопасности в Интернете29, нацеленный на усиление контроля за распространением информации и налагающий на всех операторов связи обязанности по оценке риска незаконного контента. Регулятор – Office of Communications (Ofcom) – после принятия закона получит дополнительные полномочия по блокировке сервисов, приложений, поисковых запросов30. Отчасти была позаимствована концепция немецкого нормативного акта, в со‐ ответствии с которой предлагается также выделить ряд составов преступле‐ ний, чтобы на их основе определить запрещенные действия в киберпро‐ странстве. В настоящий момент проект находится на обсуждении в парла‐ менте Великобритании.
В нашей стране принят Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 236‐ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно‐телекоммуникацион‐ ной сети “Интернет” на территории Российской Федерации». Даже беглое знакомство с его основными положениями указывает на ряд общих черт с немецким Законом об улучшении правоприменения в социальных сетях, где особое место уделено политике «приземления» ключевых технологиче‐ ских компаний Google, Facebook, Twitter (создание филиала или представи‐ тельства на территории РФ, регистрация личного кабинета на сайте Роском‐ надзора, закрепление механизма рассмотрения обращений российских пользователей при нарушении их прав). Цель – противодействие террори‐ стическим угрозам – российский закон прямо не предусматривает.
Таким образом, появление социальных сетей изменило принципы коммуникативных связей, во многом переведя их в цифровое пространство.
Этим воспользовались и террористические организации, быстро увидевшие преимущества для вербовки сторонников и планирования преступных дейст‐ вий. В научном сообществе сегодня обсуждаются такие новые явления, как саморадикализация и «волк‐одиночка», ставшие трендами в построении сис‐ темы противодействия террористическим угрозам. Многие государства мира столкнулись с проблемами, когда технология, изначально призванная спо‐ собствовать совершенствованию межличностного общения вне границ и зна‐ чительных расстояний, стала основой для построения «террористического Интернационала». И каждая страна пытается сформировать соответствующее законодательство, нацеленное на минимизацию террористических угроз в Интернете. В Германии это Закон 2017 года об улучшении правопримене‐ ния в социальных сетях, в России – Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 236‐ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно‐телекомму‐ никационной сети “Интернет” на территории Российской Федерации». Рос‐ сийский закон только нарабатывает практику применения, но будем наде‐ яться, что он станет тем необходимым «первым рубежом» в системе профи‐ лактики и недопущения преступного контента террористического характера.
Список литературы Правовые основы противодействия терроризму в цифровом пространстве
- АндрюхинН. Г., Смирнов A.A. Терроризм одиночек как современная форма террористической деятельности // Международная жизнь. 2018. № 9. С.91-109.
- Базаркина Д. Ю. Возможности коммуникационного противодействия ультраправомутерроризму одиночек (на примере Андерса Брейвика) // Государственное управление. Электронный вестник. 2014. Вып. 44. С. 119-135.
- Зайцев О. А., Пастухов П. С. Формирование новой стратегии расследования преступлений в эпоху цифровой трансформации // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2019. Вып. 46. C. 752-777.
- Павлик М. Ю., Боричев И. В. Терроризм одиночек: основные тенденции и особенности противодействия // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020.№ 1.С. 106-112.
- Романовский Г. Б., Романовская О. В. Права человека и борьба с терроризмом: зарубежный опыт. М.: Проспект, 2021.
- Щекотин Е. В. Феномен «атомарной гражданской войны»: терроризм одиночек как вызов современному миру // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 12-2. С. 214-216.
- Adamski H. Hassreden (Hate Speech) im Internet. Zum Streit um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) // Gesellschaft. Wirtschaft. Politik. 2018. № 1. S. 135-142.
- AinaS.H. Digital radicalization of terrorist groups: how technological change affects the organization of modern international terrorism. Framework Document IEEE 05/2021. URL: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/ 2021/DIEEEM05_2021_SARHER_Radicalizacion_ENG.pdf.
- Alfano M. R., Carter J. A., Cheong M. Technological seduction and self-radicalization // Journal of the American Philosophical Association. 2018. Vol. 4, № 3. P. 298-322.
- Eickelmann J., Grashöfer K., Westermann K. Eine Stellungnahme zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz // Zeitschrift für Medienwissenschaft. Heft 17: Psychische Apparate. 2017. Jg. 9,№ 17-2. S. 176-185.
- Feldmann T. Zum Referentenentwurf eines NetzDG: Eine kritische Betrachtung// Kommunikation & Recht.2017. № 5. S. 292-297.
- Fisogni P. Cyberterrorism and self-radicalization - emergent phenomena of on life age: An essay through the General system theory // International Journal of Cyber Warfare and Terrorism. 2019. Vol. 9, № 3. P. 21-35.
- IwersS.J., Lechleitner M. Netzwerkdurchsetzungsgesetz (Wahlperiode Brandenburg, 7/1). Potsdam: Landtag Brandenburg, Parlamentarischer Beratungsdienst, 2019. URL: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-65649-8.
- Koomen W., Pligtvan der J. The psychology of radicalization and terrorism. London: Routledge, 2015.
- PinkusB. M. The limits of free speech in social media // Accessible Law. Issue: Constitutional Law. 2021. 26 April. URL: https://accessiblelaw.untdallas.edu /limits-free-speech-social-media.
- SilberM. D., BhattA. Radicalization in the West: The homegrown threat. URL: https://info.publicintelligence.net/NYPDradicalization.pdf.
- SmithA. G. How radicalization to terrorism occurs in the United States: What research sponsored by the National Institute of Justice tells us. URL: https: // www.ojp.gov/pdffiles1/nij/250171.pdf.
- TiwariS., Ghosh G. Social media and freedom of speech and expression: Challenges before the Indian law. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract id=2892537.