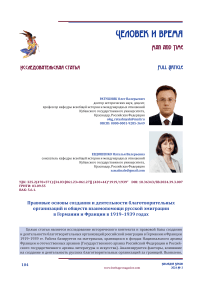Правовые основы создания и деятельности благотворительных организаций и обществ взаимопомощи русской эмиграции в Германии и Франции в 1919-1939 годах
Автор: Ратушняк О.В., Евдошенко Н.В.
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Человек и время
Статья в выпуске: 3 (39), 2024 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является исследование исторического контекста и правовой базы создания и деятельности благотворительных организаций российской эмиграции в Германии и Франции 1919-1939 гг. Работа базируется на материалах, хранящихся в фондах Национального архива Франции и отечественных архивов (Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного архива литературы и искусства). Анализируются факторы, влиявшие на создание и деятельность русских благотворительных организаций за границей. Выявлено, что законодательство в отношении иммигрантов было довольно либеральным в Германии до 1933 г., во Франции - до 1939 г. Изменения начались в Германии с приходом к власти нацистов, а во Франции - с началом Второй мировой войны. Они привели к тому, что благотворительные организации и общества российских эмигрантов в этих государствах постепенно стали приходить в упадок, самостоятельно прекращали свою деятельность либо были запрещены властями.
Благотворительные организации, русское зарубежье, русская эмиграция, франция, германия
Короткий адрес: https://sciup.org/170207757
IDR: 170207757 | УДК: 325.2(470+571):[34.03, | DOI: 10.36343/SB.2024.39.3.007
Текст научной статьи Правовые основы создания и деятельности благотворительных организаций и обществ взаимопомощи русской эмиграции в Германии и Франции в 1919-1939 годах
В современном мире, который буквально пронизывают различные миграционные потоки и в котором динамичное развитие многих государств немыслимо без использования труда, навыков и опыта мигрантов, миграция порождает и многочисленные проблемы. Такие проблемы связаны не только с культурными отличиями и конфессиональной принадлежностью мигрантов, но и с вопросами материального и бытового характера. В значительной степени решение подобных вопросов лежит в сфере законодательства государства, принимающего мигрантов, и в организации взаимопомощи местными этническими общинами. Все это актуализирует исследование исторического опыта оформления правовых основ создания и деятельности благотворительных иммигрантских организаций и обществ. И в этом плане значительный материал для размышлений и выводов предоставляет анализ политики правительств ведущих европейских государств в отношении российских эмигрантов, а также создаваемых ими объединений и обществ взаимопомощи.
Многие европейские страны, начиная с 1919 г., приняли огромное количество беженцев из России, уехавших в большинстве своем вынужденно и срочно, спасаясь от последствий Октябрьского переворота и Гражданской войны. Вывезти и сохранить какую-то часть своих средств смогли лишь немногие из российских эмигрантов, остальные же были лишены привычных источников дохода и нуждались в помощи, в первую очередь материальной.
Не все страны-реципиенты наряду с предоставлением убежища могли оказывать на правительственном уровне материальную помощь. Этой проблемой были озабочены, прежде всего, международные гуманитарные организации, такие как Верховный комиссариат по делам беженцев и Международный Красный Крест, а также сами эмигрантские сообщества. Внутри русской диаспоры стали появляться в большом количестве благотворительные организации и общества взаимной материальной поддержки, созданные в виде фондов, обществ, союзов, комитетов, комиссий и просто касс взаимопомощи. Цели у большинства из них были схожие — моральная и материальная поддержка соотечественников. Как правило, учредителями подобных организаций были люди, уже имевшие подобный опыт либо в России, либо в Европе, обладавшие необходимой энергией, энтузиазмом и движимые чувством сострадания. Для создания эмигрантской благотворительной организации необходимо было учитывать и соблюдать требования национального законодательства каждого государства, регламентирующие порядок учреждения и функционирования обществ.
Условия создания и существования таких благотворительных обществ не были одинаковыми в разных странах и зависели от правовых ограничений, а также от внешне-и внутриполитического контекста, которые менялись на протяжении двух межвоенных десятилетий истории так называемого «русского зарубежья». Особенно значительные изменения происходили во Франции и Германии, что, несомненно, влияло на деятельность благотворительных организаций в этих государствах.
К теме исследования деятельности благотворительных организаций русской диаспоры в межвоенный период неоднократно обращались многие отечественные и зарубежные ученые. Интересны и информативные работы, рассматривающие деятельность отдельных надгосударственных гуманитарных организаций, таких как Российский Красный Крест [16] [30] и Земгор [28]. Общие вопросы, касающиеся способов организации помощи, проанализированы в нескольких публикациях З. С. Бочаровой [3] [4] [5]. Благотворительным и ветеранским организациям, объединениям и фондам русской эмиграции посвящена одна глава в сборнике, составленном И. В. Сабенни-ковой, В. Л. Гентшке и А. С. Ловцовым в форме материалов к справочнику [21]. Другие многочисленные работы, посвященные социальной адаптации российских эмигрантов в разных европейских странах и роли в этом процессе благотворительных организаций, рассматривают предмет изучения только с точки зрения результата их деятельности и влияния на жизнь эмигрантского сообщества. Наиболее близкой к теме представленного исследования является статья С. С. Ипполитова, в которой сделан акцент на проблемах легализации российских юридических лиц и коммерческих организаций в Германии [11]. Отметим также монографию К.Д. Котельникова, подготовленную на основе диссертационного исследования и посвященную механизмам и проблемам адаптации русских эмигрантов в Германии [14].
Анализ степени изученности исследуемой проблемы показывает, что работ, специально посвященных рассмотрению правовых основ создания и деятельности именно благотворительных организаций и обществ взаимопомощи русской эмиграции в Германии и Франции в 1919-1939 гг. нет. Настоящая статья призвана частично заполнить имеющуюся лакуну.
Целью данного исследования является анализ правовых основ создания и деятельности благотворительных обществ русской эмиграции в 1919–1939 гг. во Франции и Германии.
Исследование, представленное в настоящей статье, базируется на материалах фондов Национального архива Франции и отечественных архивов — Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) и Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ). Особый интерес представляют фонды Министерства общей полиции и Глав- ного управления общественной безопасности Национального архива Франции, в которых содержится основной массив материалов, касающихся обществ и организаций, созданных российскими эмигрантами во Франции. В частности, анализ сведений о регистрации эмигрантских объединений местными префектурами полиции во Франции дает возможность получить сведения не только о существовании данных организаций, но и об их целях, а также роде занятий руководящих членов. Документы, позволяющие проанализировать положение российских эмигрантских объединений в Германии, содержатся в фондах Общества помощи русским гражданам в Берлине (ГАРФ) и Берлинского комитета помощи русским литераторам и ученым (РГАЛИ). Представление о положении казачьих объединений и обществ в эмиграции дают материалы фонда Канцелярии Донского атамана (ГАРФ).
Методология работы базируется на сравнительно-историческом, сравнительноправовом и историко-системном методах исследования с использованием максимально полного корпуса источников по указанной теме. Сравнительно-правовой метод исследования позволил провести сравнительный анализ нормативно-правовых основ германского и французского законодательств в контексте их влияния на создание и развитие благотворительных организаций и обществ взаимопомощи русской эмиграции в данных государствах. Благодаря использованию сравнительно-исторического метода были выявлены этапы и закономерности развития русских эмигрантских благотворительных организаций. Применение историко-системного метода позволило не только проанализировать механизмы и принципы функционирования русских благотворительных обществ и объединений, но и выявить зависимость этого функционирования от исторических условий их существования.
Исследование заявленной темы включало в себя три основные этапа и направления. Во-первых, проанализированы правовые основы создания и деятельности русских благотворительных обществ, существовавших во Франции и Германии до 1917 г., так как многие из них продолжили свою работу и после начала массовой эмиграции из России. Во-вторых, детально рассмотрены структура и механизмы функционирования объединений русских эмигрантов в период с 1917 по 1939 гг. При этом особый акцент был сделан на изменениях законодательства в отношении благотворительных организаций. В-третьих, проведен анализ происходивших в политической и, как следствие, в законодательной сфере Германии и Франции изменений и их влияния на деятельность русских благотворительных обществ в рассматриваемых государствах.
В статье впервые проведен сравнительный анализ создания и деятельности русских благотворительных обществ и объединений в Германии и Франции, в частности отмечены особенности благотворительных организаций казаков-эмигрантов, составляющих часть «русского зарубежья». Это определяет научную новизну исследования.
Научная значимость результатов проведенного исследования заключается не только в том, что оно восполняет лакуну в российской историографии по заявленной проблеме, но и может явиться отправной точкой для дальнейшего изучения деятельности благотворительных организаций и обществ русской эмиграции в других государствах.
Российские благотворительные организации существовали в Европе еще до периода массового исхода беженцев «первой волны» эмиграции. Среди них в первую очередь отметим такие международные организации, как Российское отделение Красного Креста, которое к 1917 г. насчитывало пятидесятилетнюю историю [15], Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам и Всероссийский союз городов, созданные в 1914 г. с разницей в несколько месяцев. Во многих европейских странах действовали русские благотворительные организации местного масштаба, которые в большинстве своем были основаны во второй половине XIX в. Они оказывали помощь соотечественникам в пределах одной страны или города. Объединяет Францию и Германию то, что и в той, и в другой стране еще до событий 1917 г. существовала значительная русскоязычная диаспора, сформировавшаяся на протяжении второй половины XIX — начала XX столетия.
В Германии долгое время существовала лишь конфессиональная благотворительность. В середине XIX в. к ней из-за бурного развития промышленности добавилась помощь, инициированная органами местного самоуправления, когда администрации отдельных городов и земель выделяли деньги на конкретные проекты помощи нуждающимся. В Германии считалось, что дело помощи каждому отдельному человеку — это дело гражданского общества (Burgerliche Gesellschaft), где граждане могут объединяться в корпорации и различные членские организации, в то время как ответственность за общее благо всех — прерогатива государства [23]. Так, например, король Пруссии Фридрих Вильгельм в 1843 г. указом установил, что все прусские городские общины обязаны предоставлять помощь бедным. Одним из первых городов, в котором заработала система социальной помощи, был Эльберфельд (ныне часть города Вупперталь в земле Северная Рейн-Вестфалия, в XIX в.— центр текстильной промышленности), где совет общины принял постановление о создании совета по призрению бедных [18]. В последующие годы этот опыт перенимался другими городами и землями, а в 1880 г. была создан Германский союз по призрению бедных и благотворительности (Deutscher Verein fur Armenpflege und Wohltatigkeit), объединивший местные организации и союзы. К концу XIX в. в Германии повсеместно стали создаваться женские общественные организации, подобные основанной в Берлине в 1893 г. «Группы девушек и женщин для социальной работы».
К началу ХХ в. в Германии благотворительность уже рассматривалась как социальный институт, и большое количество организаций объединял и координировал вышеупомянутый «Германский союз по призрению бедных и благотворительности», который затем была переименован в «Германскую ассоциацию общественного и негосударственного обеспечения» [19].
В Германии времен Веймарской Республики возможность создавать общественные союзы была установлена статьей 124 Конституции, принятой 31 июля 1919 г. Также про- должал действовать принятый в 1896 г. Гражданский Кодекс (Burgerliches Gesetzbuch), в котором в качестве юридических лиц были признаны ферейны (общества и союзы) с определенными правами и обязанностями их членов. Создание ферейнов могло преследовать цели хозяйственные (извлечение прибыли) и нехозяйственные (культурные, научные и другие). Для последних был установлен явочный (заявительный) порядок их образования. Общества могли быть закрыты органами государственной власти при угрозе «общественным интересам» [12, с. 662].
В 1922 г. был принят закон «Об общественном вспомоществовании молодежи», а в 1924 г. — «Об обязательном социальном обеспечении». Таким образом, государство становилось полноправным участником процесса оказания помощи малоимущим гражданам.
Германия привлекала русских еще до массовой эмиграции. В Берлине в 1890 г. было основано благотворительное Свято-Князь-Владимирское братство, существующее и по сей день. Оно помогало «бедствующим русским подданным всех христианских конфессий и людям православной веры всех наций» и вело деятельность на пожертвования и членские взносы [15]. Во время Первой мировой войны в 1916 г. был создан Комитет помощи русским гражданам в Берлине для поддержки подданных России, оказавшихся в Германии. Этот Комитет в 1920 г. был преобразован в «Общество помощи русским гражданам 1916 года» и продолжал свою работу до 1924 г. [7, л. 1–6].
В начале 1920-х гг. Германия стала одним из центров притяжения для русских эмигрантов из-за того, что «отсюда, казалось, было легче вернуться, и, прежде всего, здесь легче было жить, обвал немецкой марки позволял обладателям твердой валюты иметь при многократных обменах хорошую прибыль» [21, с. 8]. Но в то же время иностранцы были сильно ограничены в праве на работу. Так, по существующим в Германии законам, эмигранты, которые приехали в страну после 1913 г., не могли наниматься на сельскохозяйственные работы, а приехавшие после 1919 г. плюс к этому не допускались к работе на фабриках. Большинство российских эмигрантов при- ехали в Германию после 1919 г., поэтому для них был «закрыт доступ к земледельческому и промышленному труду» [6, с. 4][ссылка]. Также на них не распространялись меры социальной поддержки, а ставка налога на жилые помещения, введенная в марте 1923 г., была выше в пять раз, чем у граждан республики. Пособие по безработице для беженцев, хоть и со значительными ограничениями, было введено лишь в 1927 г. [6, с. 4]. Лишенные права на работу, социальную поддержку и дипломатическую защиту российские эмигранты могли рассчитывать только на помощь со стороны благотворительных организаций, которых в стране было создано значительное количество [5, с. 370], большинство — в Берлине, где в 1921 г. их насчитывалось около шести десятков [33, р. 13] при численности русской берлинской диаспоры до ста тысяч человек [13, с. 377].
В начале 1920-х гг. на деятельность некоммерческих организаций в Германии сильно повлияла экономическая ситуация. В условиях гиперинфляции и ежедневного обесценивания немецкой марки весьма проблематичным было сохранять денежные средства. В финансовых отчетах русских эмигрантских обществ мы видим попытки руководителей обществ покупать твердую валюту — французские франки, английские фунты, чтобы сохранить хоть какие-то средства [20, л. 1–2]. Но такая тактика все равно не спасала основной объем денежных средств от обесценения.
С приходом к власти национал-социалистической партии в 1933 г. были изданы многочисленные указы и декреты, ограничивающие основные права и свободы. В частности, был принят указ рейсхпрезидента Германской республики от 28 февраля 1933 г. «О защите народа и государства» («Verordnung des Reichsprasidenten zum Schutz von Volk und Staat») [32], которым отменялась в том числе вышеупомянутая статья 124 Веймарской Конституции о свободе организации союзов.
Еще одним негативным фактором для жизни русской диаспоры в Германии явился выход в 1934 г. страны из Лиги Наций, что означало для русских эмигрантов лишение юридической поддержки от представительства этой организации в виде Нансеновского офи- са по делам беженцев, в том числе прекращение субсидирования из средств комитета эмигрантских благотворительных организаций, находящихся в Германии.
К уже перечисленным факторам, пагубно влиявшим на положение российских эмигрантов в Германии, с 1933 г. добавилось ограничение в правах и преследование лиц еврейской национальности. А поскольку во многих благотворительных организациях они составляли если не большинство, то значительную часть, эти организации были закрыты по решению властей. Совокупность всех перечисленных факторов привела к тому, что большинство российских эмигрантов предпочло к середине 1930-х гг. уехать из Германии и выбрать другую, более свободную и спокойную страну пребывания. Для значительного числа наших соотечественников такой страной стала Франция.
Во Франции еще в XIX в. в разное время существовало несколько русских благотворительных организаций. Одним из первых в ноябре 1877 г. по инициативе художника А. П. Боголюбова было создано Общество взаимного вспоможения и благотворительности русских художников в Париже [10]. В числе прочего это общество занималось оказанием денежной помощи русским художникам и их семьям в виде выдачи временных ссуд и пособий.
Самое крупное общество во Франции было создано в начале 1890-х гг. под покровительством российского посольства — Русское благотворительное общество в Париже, которое получало денежные средства от высокопоставленных чиновников российских представительств во Франции, от состоятельных семей, банков, а также от членов императорской семьи Николая II. Одним из первых, в 1891 г., существенный вклад в парижское общество в размере десяти тысяч франков внес банкирский дом Ротшильдов, а через несколько лет Альфонс Ротшильд сделал еще один взнос в размере 75 тысяч франков. Средства общества расходовались на помощь соотечественникам, которые испытывали временные трудности с оплатой лечения, учебы или реэмиграции [1]. Несколькими годами ранее, в 1885 г., в Ницце великой княгиней Ольгой Николаевной, королевой Вюртембергской
(дочерью императора Николая I) было основано такое же Русское благотворительное общество, которое позднее лично опекалось великой княгиней Марией Александровной, герцогиней Саксен-Кобург-Готской. Альфонс Ротшильд, распределяя наследство в 1902 г., обществу в Ницце выделил 30 тысяч франков [2]. Деятельность этих организаций была направлена на помощь находящимся за пределами Российской империи соотечественникам, которых только во Франции в конце XIX в. насчитывалось около 15 тысяч. Это были в основном аристократы, писатели, интеллектуалы [27, р. 30] К 1908 г. численность русской диаспоры увеличилась во Франции до 25 тысяч человек в основном за счет политических эмигрантов [27, р. 30].
Таким образом, традиция создания филантропических обществ для помощи соотечественникам во Франции зародилась задолго до массовой эмиграции из России в начале 1920-х гг.
История взаимодействия государства и некоммерческих нерелигиозных организаций во Франции была непростой. Интересным фактом является, например, наличие статьи 291 в Уголовном кодексе 1810 г., в которой было установлено, что преследованию подвергаются ассоциации, состоящие более чем из 20 членов, при этом не имело значения, с какой целью они были созданы. Французы успешно избегали наказания по этой статье, собираясь в объединениях с разрешенным количеством участников, но с 1848 г. любые общества попадали под подозрение полиции как осуществляющие политическую деятельности вместо решения вопросов, связанных с благотворительностью. А во время Второй империи подобные организации были вообще запрещены.
Пришедшие к власти политические деятели в только что родившейся Третьей республике обещали принять закон о свободе ассоциаций, но не спешили выполнять обещание, боясь создания оппозиционных политических объединений. Вопрос часто дебатировался, решение в итоге было принято отнюдь не потому, что государство хотело предоставить гражданам свободу в деле благотворительности, а для того, чтобы нанести удар по оппози- ции, которая в то время возглавлялась церковью и ее общинами, ведь именно церковь держала в своих руках всю благотворительную деятельность [31, р. 8–10].
Первым правовым актом, который положил начало регулированию в области социального страхования, стал закон от 1 апреля 1898 г. «Об обществах взаимного страхования» [29]. Согласно этому документу такие общества определялись как ассоциации, ставящие перед собою цели оказания финансовой помощи своим членам в случае болезни, инвалидности, помощи родственникам в случае смерти и помощи в виде пособий по безработице. Эти организации обязаны были гарантировать своим членам одинаковую помощь в аналогичных случаях. Для целей нашего исследования важным является положение статьи 3 раздела 1, где указывается, что общества взаимопомощи, созданные между иностранцами, имеют право существовать только на основании министерского постановления, которое может быть отозвано в любой момент.
Сопоставив положения закона и правила функционирования касс взаимопомощи, созданных при обществах взаимного страхования французами и, зачастую, при каком-либо профессиональном объединении российскими эмигрантами, мы можем констатировать, что эмигрантские кассы взаимопомощи не подпадали под действие вышеприведенного закона, поскольку не выполняли функцию страхования, не регистрировались в установленном порядке и не соблюдали все предписанные законом требования.
Основная часть благотворительных обществ и профессиональных союзов российской эмиграции действовала на основании «Закона об ассоциациях», принятого 1 июля 1901 г. [17]. Этот документ гарантировал право на свободу собраний и ассоциаций, предметом регулирования в нем были ассоциации, союзы, общества, не преследующие цели материальной выгоды и являющиеся политическими, благотворительными, культурными или научными.
Французский закон 1901 г. устанавливал три вида ассоциаций: 1) создающиеся без заявлений и уведомлений, просто по согласию учредителей, без подачи каких-либо докумен- тов в органы власти, 2) обладающие юридической правомочностью и обязанные подавать заявление о создании в орган власти и 3) желающие иметь более широкие юридические права и являющиеся общественно-полезными (d’utilite publique). Ассоциациям с заявительным порядком регистрации необходимо было предоставить в орган местного управления — префектуру — устав и заявление, в документах «должны быть указаны название и задача ассоциации, место нахождения ее учреждений, а также имена, профессии и места жительства тех лиц, на которых, в каком-либо качестве, возлагается заведование или управление ассоциацией» [17 с. 273]. Ассоциации, признаваемые общественно-полезными, могли получать средства в виде дара или по завещанию, но не имели права владеть недвижимостью, кроме необходимой для осуществления уставной деятельности, все ценности их должны были быть размещены в именных бумагах. Юридическим отличием общественнополезных организаций от второго типа ассоциаций была возможность отстаивать свои права в судебном порядке. Особый пункт закона (ст. 12) касался ассоциаций, «в составе которых большинство — иностранцы, а также те, в которых заведующими являются иностранцы» [17 с. 273]. Он содержал предупреждение, что такие ассоциации могут быть закрыты декретом президента республики при исходящей от них угрозе внутренней или внешней безопасности.
Таким образом, некоторые ассоциации могли создаваться без подачи уведомления в органы власти, а для других было необходимо зарегистрироваться как юридическое лицо в местной префектуре полиции того населенного пункта, в котором будет находиться руководящий орган создаваемой ассоциации. Отличие незарегистрированных ассоциаций от прошедших процедуру регистрации заключалось в том, что первые не обладали правоспособностью, то есть не могли заключать договоры, открывать банковский счет, нанимать персонал. Поэтому большинство все же предпочитало быть зарегистрированными [24].
Приход к власти в соседней Германии национал-социалистической партии в 1933 г. спровоцировал более пристальное внимание государства к эмигрантским организациям и обществам во Франции. На каждую такую организацию префектурой полиции составлялись подробные отчеты [25], которые затем передавались в Министерство иностранных дел и местную администрацию.
Ввиду подозрения иностранных общественных организаций властями Франции в осуществлении деятельности, отличной от заявленной при регистрации, 12 апреля 1939 г. был издан Декрет, обязывающий все подобные организации, созданные по закону от 1 июля 1901 г., месячный срок с даты публикации декрета 16 апреля 1939 г. предоставить в префектуру полиции сведения об учредителях, месте нахождения, деятельности и членах организации, пройти процедуру перерегистрации и испросить разрешение на продолжение деятельности. А те ассоциации, которые вели свою деятельность без регистрации в силу положения Закона от 1901 г., обязаны были пройти эту процедуру [26]. Срок исполнения требований Декрета отдельными предписаниями продлевался дважды: до 3 июня 1939 г. и затем еще на один месяц до 3 июля 1939 г. При этом под иностранными организациями в контексте данного закона подразумевались те, у которых либо штаб-квартира находилась за границей, либо руководители были иностранцами, либо члены общества как минимум на четверть состояли из иностранцев.
За время относительной свободы деятельности общественных организаций во Франции, наряду с благотворительными, сформировались и выросли политические общества русской эмиграции. 2 сентября 1939 г. французской полицией были произведены массовые аресты русских беженцев, которые попали в категорию «нежелательных элементов» [22, с. 55].
Среди благотворительных организаций и обществ особое место занимают созданные казаками-эмигрантами. Они фактически с первых лет пребывания за границей стали создавать свои организации и общества в форме так называемых станиц и хуторов, которые носили не только, а порой не столько административный характер, сколько благотворительный (это часто было отражено в их уставных документах). В марте 1922 г. атаман Всевеликого войска Донского генерал А. П. Богаевский, возглавлявший Объединенный совет Дона, Кубани и Терека, утвердил «Положение об управлении станицами и хуторами за границей». Целью данного Положения было не только централизовать и упорядочить процесс создания казачьих объединений в эмиграции, но и отразить наиболее важные их составляющие, в том числе сделав акцент на их благотворительной функции. Среди основных задач станиц и хуторов отмечались: «юридическая и медицинская помощь, забота об инвалидах, одиноких женщинах, детях и безработных» [8, л. 14]. Отметим, что во Франции было на порядок больше, чем в Германии, и казаков-эмигрантов, и казачьих организаций и обществ [9, л. 79].
Анализ условий создания и функционирования общественных организаций в Германии и во Франции показывает, что до начала 1930-х гг. в обоих государствах законодательство было достаточно либеральным. Это позволяло создавать благотворительные организации и общества взаимопомощи с минимальными затратами на взаимодействие с государственными органами. Установление Германией в 1923 г. и Францией в 1924 г. дипломатических отношений с Советским Союзом никак не отразилось в юридическом плане на деятельности эмигрантских организаций помощи, что подтверждается отсутствием новых законодательных актов в этой сфере в указанные периоды.
Проблемы с осуществлением деятельности у обществ, находящихся в Германии, начались с 1933 г., с приходом к власти партии национал-социалистов, когда многие организации были запрещены. В то же время во Франции на протяжении всего десятилетия власти ограничивались только усиленным наблюдением, без применения репрессивных мер. Но накануне Второй мировой войны ситуация в двух странах, с точки зрения свободы общественных объединений, стала практически одинаковой, то есть все они подозревались в политической неблагонадежности и в финансировании нежелательных элементов. А с началом немецкой оккупации Франции большинство эмигрантских организаций и обществ де-факто перестало существовать.
Таким образом, русская эмиграция в два межвоенных десятилетия хоть и вынужденно, но с успехом продолжала традиции оказания помощи, заложенные предшественниками, начиная с 1870-х гг., через специально созданные общественные организации и объединения. При этом немаловажным фактором оказалось, что законодательные нормы в двух рассмотренных странах до определенного момента не препятствовали процессу организации взаимопомощи внутри диаспоры. Во второй половине 1930-х гг. сильное влияние на деятельность рассматриваемых объединений оказала политическая обстановка и полити- зация общества. Эти процессы в свою очередь привели к тому, что многие некоммерческие благотворительные объединения стали частично или полностью заниматься политической деятельностью сначала в Германии, а затем и во Франции. Однако события начавшейся Второй мировой войны и соответствующая политика германского и французского правительств привели к практически полному прекращению деятельности всех политических организаций русского зарубежья.
Проведенное исследование является лишь одним из этапов более обширной работы, посвященной анализу деятельности русских благотворительных организаций и обществ за рубежом.
Natalia V. EVDOSHENKO
Список литературы Правовые основы создания и деятельности благотворительных организаций и обществ взаимопомощи русской эмиграции в Германии и Франции в 1919-1939 годах
- Бойко Ю. В. Тургеневская библиотека в Париже в 1875–1914 годах: к предстоящему 125-летию библиотеки // Русская мысль. 2000.. 19 янв. № 4300. С. 18.
- Бойко Ю. Щедрая благотворительность [Электронный ресурс] // Независимая газета. 2000. 23 мая. URL: https://www.ng.ru/style/2000-05-23/16_chairity.html?ysclid=m2azeqrrqx900564866 (дата обращения: 19.05.2023)
- Бочарова З. С. Пути и формы осуществления социальной помощи в русском зарубежье (к теории вопроса) [Электронный ресурс] // История: электронный научно-образовательный журнал. 2020. T. 11, Вып. 2 (88). С. 79–87. DOI 10.18254/S207987840008779-5.
- Бочарова З. С. Роль эмигрантских общественных организаций в Германии в адаптации российского беженства (нач. 20-х гг.) // Социально-экономическая адаптация российских эмигрантов (кон. XIX–XX вв.): сб. ст. / под ред. Ю. А. Полякова, Г. Я. Тарле; предиcл. Ю. А. Полякова. М.: Ин-т рос. истории Рос. акад. наук, 1999. С. 162–172.
- Бочарова З. С. Урегулирование прав русских беженцев в Германии в 1920–1930-е гг. // Русский Берлин. 1920–1945: междунар. науч. конф. (Москва, 16–28 декабря 2002 г.). М.: Русский путь, 2006. С. 369–405.
- Гольденвейзер А. А. Социальные проблемы беженства // Руль. 1927. № 1956. 7 мая. С. 4.
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 5815. Оп. 1. Д. 1.
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 6461. Оп. 1. Д. 273.
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 6679. Оп. 1. Д. 184.
- Землякова О., Леонидов В. Альбом Николая Сакса // Русское искусство. 2004. № 4. С. 90–99.
- Ипполитов С. С. Российская эмиграция первой волны в Германии: гуманитарно-правовые аспекты адаптации. 1917–1920-е гг. // Исторический журнал: научные исследования. 2020. № 1. С. 115–127. DOI 10.7256/2454-0609.2020.1.31909
- История государства и права зарубежных стран: учебник для вузов: в 2 ч. Ч. 2 / под общ. ред. О. А. Жидкова, Н. А. Крашенинниковой. 2-е изд., стер. М.: Норма, 2003. 720 с.
- Котельников К. Д. Амбулатория Российского общества Красного креста в Берлине в 1920–1930-е годы // Научный диалог. 2021. № 8. С. 375–386.
- Котельников К. Д. Русский Берлин 1919–1933: проблемы и механизмы адаптации русской эмиграции в Германии. М.: ДПК-Пресс, 2022. 238 с.
- Лунёв И. История братства [Электронный ресурс] // Милосердие.ru. URL: https://www.miloserdie.ru/article/istoriya-bratstva/?ysclid=m1926pnqfr616250053 (дата обращения: 18.09.2024).
- Миронова Е. М. Русский Красный Крест за рубежом: организационная структура, международный статус [Электронный ресурс] // История: электронный научно-образовательный журнал. 2020. T. 11, Вып. 2 (88). DOI 10.18254/S207987840008779-5.
- Обзор иностранного законодательства. Французский закон 1 июля 1901 года об ассоциациях и религиозных конгрегациях и относящиеся к нему декреты 16 августа 1901 года // Журнал министерства юстиции. 1901. № 8 (октябрь). С. 270–296.
- Павлова И. П. Эльберфельдская система социальной помощи неимущим: от добровольчества к профессионализму // Журнал исследований социальной политики. 2016. № 3. С. 363–376.
- Пешкова Н. Н. Благотворительность в Европе: прихоть богатых или способ решения социальных проблем? // Современная Европа. 2014. № 3 (59). С. 106–116.
- Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 1570. Оп. 1. Д. 25.
- Урбан Т. Русские писатели в Берлине в 20-е годы XX века / пер. с нем. Т. Цапалиной. СПб.: Лики России, 2014. 287 с.
- Урицкая Р. Л. Судьба русской эмиграции по Франции с 1933 по 1948 г.: они любили свою страну… СПб.: Площадь искусств, 2015. 238 с.
- Archambault E., Priller E. & Zimmer A. Associations et fondation en France et en Allemagne: traditions et convergence // Revue internationale de l’économie sociale. 2013. Vol. 329. P. 92–106. DOI 10.7202/1017936ar.
- Archives nationales de France (ANF) F. 7. C. 14751.
- Archives nationales de France (ANF). F. 19940495. C. 18.
- Décret relatif à la constitution des associations étrangères // Journal officiel de la République française. Lois et décrets 1939 avril 16, № 0091, p. 4911-4912
- Gorboff M. La Russie Fantôme: l’émigration russe de 1920 à 1950. Lausanne: L’Age d’homme, 1995. 281 c.
- Kévonian D. L’organisation non gouvernementale, nouvel acteur du champ humanitaire // Cahiers du monde russe. 2005. Vol. 46, № 4. P. 739–756. DOI 10.4000/monderusse.9429.
- Loi relative aux sociétés de secours mutuels // Journal officiel de la République Française. 1898. 5 avril. № 0094. P. 2089–2095.
- Nicolas C. Le CICR au secours des réfugiés russes 1919–1939 // Matériaux pour l’histoire de notre temps. 2009. Vol. 95, № 3. P. 13–24. DOI 10.3917/mate.095.0003.
- Solange P., Guy R. Les associations / preface de F. Pascal. Paris: la Découverte, 1984. 126 p.
- Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat (vom 28. Februar 1933) [Elektronische Ressource] // documentArchiv.de. URL: http://www.documentarchiv.de/ns/rtbrand.html (Datum des Zugangs: 09.05.2023).
- Volkmann H.-E. Die Russische Emigration in Deutschland. Würzburg: Holzner-Verlag, 1966. 154 p.