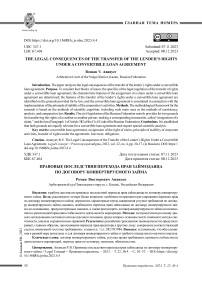Правовые последствия перехода прав займодавца по договору конвертируемого займа
Автор: Ананьев Р.В.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 4 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение: в работе дан анализ правовых последствий перехода прав займодавца по договору конвертируемого займа. Цель: рассмотреть четыре блока вопросов: особенности правового регулирования перехода прав по договору конвертируемого займа; определить характерные черты совершения уступки требования по договору конвертируемого займа; выявить особенности перехода прав займодавца по договору конвертируемого займа по основаниям, предусмотренным законом, а также рассмотреть договор конвертируемого займа во взаимосвязи с реализацией принципа стабильности деятельности корпорации. Методы: методологическую основу данного исследования составили методы научного познания, среди которых основное место занимают методы системности, анализа и сравнительно-правовой. Результаты: российское гражданское законодательство предусматривает, главным образом, два основания перехода прав кредитора к другому лицу: совершение соответствующей сделки, именуемой «уступка требования»; и закон (п. 1 ст. 382 ГК РФ). Выводы: установлено, что оба основания в равной мере актуальны и для договора конвертируемого займа и требуют специального научного анализа.
Договор конвертируемого займа, уступка права требования, принцип стабильности деятельности корпораций, переход прав по договору, заемщик, обязательство
Короткий адрес: https://sciup.org/149145040
IDR: 149145040 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2023.4.4
Текст научной статьи Правовые последствия перехода прав займодавца по договору конвертируемого займа
DOI:
Квалификация договора конвертируемого займа в качестве нового договорного вида в рамках заемного типа гражданско-правовых договорных конструкций позволяет с определенной долей условности считать его денежным обязательством. Подобная квалификация обусловливает применимость к рассматриваемому институту позиции, сформулированной Верховным Cудом РФ, следующего содержания: по общему правилу личность кредитора не имеет значения для уступки требования по денежному обязательству [6]. Однако сделанная оговорка по общему правилу, безусловно, свидетельствует о наличии исключений из этого правила, которые могут быть предусмотрены законом или договором.
Анализ общих положений о перемене лиц в обязательстве позволяет сделать вывод, что законодатель предусматривает запрет на переход прав к другому лицу только в отношении прав, неразрывно связанных с личностью кредитора (ст. 383 ГК РФ). Личность займодавца в рассматриваемом случае имеет существенное значение для заемщика, поскольку в конструкции договора конвертируемого займа займодавец обладает уникальным для российского частноправового законодательства правом на конвертацию обязательственных прав в корпоративные. Это предопределяет потенциальную возможность приобретения корпоративного участия в хозяйственном обществе-заемщике. Очевидно, что, как и для иных корпоративных отношений, основанных на деловом партнерстве, личность участников корпорации имеет существенное значение [2, c. 6].
Таким образом, доверительный характер правоотношений, возникающих из договора конвертируемого займа, обусловлен присущей этой договорной конструкции трансформацией обязательственных прав в корпоративные. Иными словами, заемщику важно, кто будет иметь потенциальное право на участие в делах хозяйственного общества. Вступая в отношения, обусловленные договором конвертируемого займа, заемщик рассчитывает на то, что потенциальным участником инвестируемого хозяйственного общества может стать только сам инвестор.
Согласно п. 5 ст. 32.3 Закона об АО, «если иное не предусмотрено договором конвертируемого займа, при переходе прав займодавца по указанному договору к другому лицу новый кредитор не вправе требовать от заемщика, являющегося непубличным обществом, размещения ему дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа». Из этого следует, что, по общему правилу, переход одного из альтернативных исполнений в виде требования о размещении дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа от первоначального кредитора к новому является недопустимым, если иное прямо не предусмотрено договором конвертируемого займа.
Аналогичное правило, текстуально расположенное в п. 8 ст. 19.1 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», предусмотрено и для данного института, заемщиком по которому является общество с ограниченной ответственностью. В указанном пункте содержится указание на невозможность передачи всех правомочий, вытекающих из договора конвертируемого займа, новому кредитору. Дословно это правило звучит следующим образом: «Если иное не предусмотрено договором конвертируемого займа, при переходе прав займодавца по указанному договору к другому лицу новый кредитор не вправе требовать от общества увеличения его уставного капитала во исполнение договора конвертируемого займа».
Анализ процитированных норм права позволяет сформулировать ряд выводов:
– во-первых, рассмотренные правила сформулированы диспозитивно: предполагается, что «иное» может быть предусмотрено договором;
– во-вторых, включение этого правила и в акционерное законодательство, и в законодательство об ООО свидетельствует об однозначной позиции законодателя в части признания договора конвертируемого займа сделкой, в которой личность кредитора имеет существенное значение для должника. При этом это свойство касается только одного из двух альтернативных требований – о размещении дополнительных акций во исполнение договора / об увеличении уставного капитала общества во исполнение договора конвертируемо- го займа. По этому поводу А.В. Богданов отмечает следующее: «Закон не запрещает передачу прав требования по договору третьему лицу, но при такой передаче заем теряет свойство конвертируемости и трансформируется в обычное заемное обязательство, если иное не установлено самим договором конвертируемого займа» [1, c. 69].
Особенности совершения уступки требования по договору конвертируемого займа
Корпоративное законодательство предусматривает несколько взаимосвязанных правил, свидетельствующих о том, что законодатель исходит из особого механизма уступки требования о размещении дополнительных акций / об увеличении уставного капитала общества во исполнение договора конвертируемого займа. При этом законодатель не ограничивает кредитора-займодавца в уступке его прав, вытекающих из заемного обязательства. Итак, в случае уступки требования из договора конвертируемого займа к новому кредитору переходит только одно требование, вытекающее из заемного правоотношения, – истребование суммы займа и причитающихся на них процентов. В то же время новый кредитор не получает права требования о размещении ему дополнительных акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа / увеличения уставного капитала общества во исполнение договора конвертируемого займа. Специально-юридический анализ этих норм права приводит к выводу о том, что сделка, направленная на уступку требования из договора конвертируемого займа, трансформирует альтернативное обязательство, заложенное в модели этого договора, в простое однопредметное заемное обязательство, если иное не предусмотрено договором.
По этому поводу Д.А. Плеханов замечает, что анализ норм, предусматривающих особенности перемены кредитора в обязательстве, основанием возникновения которого выступает договор конвертируемого займа, позволяет сделать вывод о существенном значении кредитора для должника, поскольку последнему «небезразлично, какое именно лицо будет обладать возможностью участвовать в его хозяйственной деятельности» [7, c. 65]. При этом ученый интерпретирует трансформацию альтернативного обязательства в простое однопредметное заемное обязательство в качестве «защиты корпоративной среды».
При этом сделка по уступке требования может произойти в рамках одной из следующих стадий динамики исследуемого обязательства: 1) до наступления отлагательного условия; 2) после наступления отлагательного условия, но до совершения кредитором права выбора; 3) после совершения кредитором выбора, даже если этот выбор осуществлен в пользу предоставления дополнительных акций / доли в хозяйственном обществе.
Независимо от стадии, на которой совершена сделка по уступке требования, новый кредитор вправе рассчитывать только на получение заемных денежных средств и причитающихся процентов. Однако следует иметь в виду, что это правило диспозитивно: иное может быть предусмотрено договором. Если «иное» предусмотрено договором и в силу его особых условий уступка требования разрешена в полном объеме, то в таком случае кредитор уступает требование, вытекающее из этого договора, в полном объеме, включая секундарное право выбора одного из альтернативных исполнений.
В последнем случае стадия исполнения обязательства из договора конвертируемого займа, на которой осуществлена уступка, имеет принципиальное значение в силу следующих обстоятельств. Если займодавец уступает требование, вытекающее из договора конвертируемого займа, до момента наступления отлагательного условия, то новый кредитор вступает в альтернативное обязательство, основанием которого является договор конвертируемого займа, до момента совершения выбора, то есть становится управомоченным на совершение выбора предмета исполнения в рамках этого обязательства. Такая же ситуация складывается в том случае, если новый кредитор вступает в обязательство, обусловленное договором конвертируемого займа, после наступления отлагательного условия, однако с нереализованным прежним кредитором правом выбора предмета исполнения.
В том же случае, когда прежний кредитор сделал выбор в пользу одного из нескольких альтернативных исполнений, то новый кредитор фактически вступает в простое однопредметное обязательство.
Интересное замечание по поводу уступки сформулировано А.В. Милоховой: «Ограничения и особенности оформления уступки права требования по договору конвертируемого займа обусловлены альтернативностью исполнения данного обязательства» [5, c. 37]. Действительно, альтернативность предопределяет столь необычный подход законодателя к переходу прав из договора конвертируемого займа новому кредитору, «отсекая», по общему правилу, одну альтернативу в виде приобретения участия в корпорации. Однако в основе такого законодательного решения не конструкция альтернативного обязательства, а иные соображения, сопряженные, как нам кажется, с фидуциарным характером соответствующих отношений, вытекающих из договора конвертируемого займа, а также принципом стабильности деятельности организации. Д.А. Плеханов отмечает следующее: «Фиду-циарность договора конвертируемого займа обусловлена долгосрочными партнерскими, а иногда дружескими отношениями между инвестором и заемщиком, скрепленных единым намерением развить фактически общий бизнес» [7, c. 65].
В результате обозначенного законодательного решения переход прав займодавца по договору конвертируемого займа к другому лицу может быть охарактеризован как релятивный: если он разрешен условиями договора конвертируемого займа, то при условии соблюдения процедурных правил он состоится в полном объеме; если переход запрещен или не упомянут в условиях договора, то он состоится только в части одного альтернативного требования – о возврате суммы займа и причитающихся процентов.
Корпоративное законодательство предусматривает особые процедурные требования к порядку заключения соглашения об уступке другому лицу прав из договора конвертируемого займа на тот случай, когда возможность перемены кредитора в обязательстве, основанием возникновения которого выступает договор конвертируемого займа, предусмот- рена условиями соответствующего договора. На этот случай в акционерном законодательстве зафиксировано требование о получении предварительного согласия общего собрания акционеров заемщика, являющегося непубличным акционерным обществом, данного единогласно всеми его акционерами – владельцами акций всех категорий (типов). Из этого следует, что в процедурном аспекте соглашение об уступке другому лицу прав из договора конвертируемого займа приравнивается к заключению договора конвертируемого займа. Это решение законодателя демонстрирует равнозначность заключения соглашения об уступке другому лицу прав и заключения нового договора конвертируемого займа.
Особенности перехода прав займодавца по договору конвертируемого займа, по основаниям, предусмотренным законом
Поскольку законодатель не разъясняет конкретные основания перехода прав займодавца по договору конвертируемого займа, что позволяет утверждать о применимости к указанным правоотношениям общих положений о перемене лиц в обязательстве. Иными словами, законодатель исходит из признания невозможности перехода прав кредитора в полном объеме к другому лицу как в силу соответствующей сделки, рассмотренной выше, так и в силу закона. Общие положения о переходе прав кредитора к другому лицу на основании закона сконцентрированы в ст. 387 ГК РФ, в которой предложен открытый перечень оснований для перехода. В их числе: универсальное правопреемство, решение суда, исполнение обязательства должника иным лицом (поручителем должника / залогодателем), суброгация, иные случаи.
На наш взгляд, наиболее актуальным для договора конвертируемого займа основанием перехода прав займодавца к иному лицу является универсальное правопреемство, которое традиционно связывают с наследованием и правопреемством при реорганизации юридических лиц. С учетом того, что займодавцем по договору конвертируемого займа может быть как физическое, так и юридическое лицо, оба случая универсаль- ного правопреемства требуют обстоятельного доктринального анализа.
В.П. Ладыгиной был сделан вывод о том, что права и обязанности из этого договора входят в наследственную массу и подлежат наследованию на общих основаниях [3, c. 31]. Это мнение может быть подтверждено посредством нормативного указания, содержащегося в ч. 1 ст. 1112 ГК РФ, о вхождении в состав наследства имущественных прав и обязанностей, к числу которых, безусловно, относятся и имущественные права и обязанности, основанные на договоре конвертируемого займа. Парадокс модели правоотношений, созданной договором конвертируемого займа, заключается в том, что одно из исполнений в виде размещения дополнительных акций во исполнение этого договора или увеличения уставного капитала тесно связано с личностью кредитора, если иное не предусмотрено условиями договора, а второе альтернативное исполнение в виде возврата заемных денежных средств и причитающихся процентов, напротив, свойством связанности с личностью кредитора не обладает. Кроме того, договор конвертируемого займа может содержать и так называемые «смешанные» исполнения, при которых займодавец вправе требовать размещения ему дополнительных акций / увеличения уставного капитала во исполнение договора конвертируемого займа и, например, уплаты части процентов.
Очевидно, что проблематика наследования прав и обязанностей из договора конвертируемого займа находится в увязке со стадией существования этого сложного обязательства.
Рассмотрим ситуацию, при которой договор конвертируемого займа запрещает переход прав по нему к другому кредитору либо не упоминает о такой ситуации вообще. Если такой переход происходит на «заемной» стадии динамики обязательства из договора конвертируемого займа, то есть с момента подписания договора конвертируемого займа и до момента наступления отлагательного условия, активирующего секундарное право займодавца на совершение выбора, то новый кредитор вступает в это обязательство без приобретения указанного секундарного права. В том случае, когда исследуемое вступление происходит на «выборной» стадии динамики соот- ветствующего обязательства, то есть с момента наступления отлагательного условия, активирующего секундарное право займодавца на совершение выбора, и до момента совершения выбора или несовершения выбора и истечения трехмесячного срока, если иной строк не предусмотрен договором, то новый кредитор, не получив секундарного права на совершение выбора, остается в рамках этой стадии только с одной опцией – правом на получение заемных денежных средств и причитающихся процентов. При вступлении нового кредитора в обязательство на третьей стадии динамики соответствующего обязательства, то есть с момента совершения зай-модавцем выбора в пользу получения заемных денежных средств и причитающихся процентов или просрочки совершения выбора в рамках альтернативного обязательства, за новым кредитором закрепляется право на получение заемных денежных средств и причитающихся процентов. Наконец, если новый кредитор вступает в обязательство на «корпоративной» стадии динамики соответствующего обязательства, то есть с момента совершения займодавцем выбора в пользу получения альтернативного исполнения в виде требования об увеличении уставного капитала общества во исполнение договора конвертируемого займа / размещения ему дополнительных акций и до момента прекращения соответствующего обязательства зачетом встречных однородных требований, то возникает интересная с точки зрения права ситуация: в силу прямого указания закона в части недопустимости перехода права требования размещения дополнительных акций / увеличения уставного капитала общества во исполнение договора конвертируемого займа к другому лицу, сделанный прежним кредитором выбор может быть аннулирован, если необходимые корпоративные процедуры к этому времени не завершены, а обязательство с обновленным составом в части личностей контрагентов трансформируется в простое заемное обязательство.
Универсальное правопреемство, которое потенциально может коснуться обязательства, основанием возникновения которого выступает договор конвертируемого займа, является нежелательным для участников хозяйствен- ного общества-заемщика. Этот вывод предопределен следующими обстоятельствами: во-первых, наследование предполагает шестимесячный срок для принятия наследства, что само по себе «затормозит» динамику отношения из договора конвертируемого займа; во-вторых, зачастую наследодатель имеет несколько наследников, вступление каждого из которых в состав участников хозяйственного общества может привести к ненужному дроблению его уставного капитала; в-третьих, личность наследника или наследников кредитора по обязательству, основанием возникновения которого является договор конвертируемого займа, может не отвечать корпоративным интересам хозяйственного общества-заемщика, особенно если в числе наследников присутствуют несовершеннолетние, недееспособные, юридические лица и т. д.
Если займодавцем по договору конвертируемого займа выступает юридическое лицо, то его реорганизация неизбежно приведет к перемене кредитора в исследуемом обязательстве. В целом и в случае с реорганизацией юридического лица – займодавца действуют все те же правила: о релятивном характере перемены кредитора в обязательстве из договора конвертируемого займа, о переходе новому кредитору, по общему правилу, только одного требования, вытекающего из заемного обязательства и т. д.
Договор конвертируемого займа и принцип стабильности деятельности корпорации
На наш взгляд, фидуциарная природа договора конвертируемого займа и недопустимость, по общему правилу, перемены займодавца в отношениях, обусловленных этой договорной конструкцией в части требования о размещении акций / выделе доли, детерминированы принципом стабильности деятельности корпорации. Отметим, что этот принцип не получил обстоятельного доктринального изучения, однако он имеет существенное практическое значение [4, c. 150].
В частности, он упоминается в положениях Кодекса этики и служебного поведения работников госкорпорации «Росатом». Несмотря на столь специфичный характер этого акта, совершенно очевидно, что соответствующее его положение о принципе стабильности деятельности корпорации носит универсальный характер и в равной мере применимо в отношении любой корпорации. В соответствии с п. 5.2 Кодекса этики Росатома «бережное обращение с имуществом, использование его только по назначению, экономное расходование ресурсов – важное условие эффективности и стабильности деятельности Корпорации». Несмотря на то что в процитированной норме стабильность деятельности корпорации не позиционируется как принцип и содержательно связывается только с имуществом корпорации, стоит отметить важность его упоминания.
Выводы
По нашему мнению, принцип стабильности деятельности корпорации – это основополагающая идея, означающая постоянство всех элементов корпорации, обеспечивающих непрерывность ее хозяйственной деятельности. В этом смысле постоянным должно быть не только имущество корпорации, с помощью которого хозяйствующий субъект участвует в гражданском обороте, но и ее участники, принимающие корпоративные решения, во многом предопределяющие судьбу юридического лица. Думается, что российский законодатель исходит из признания принципа стабильности деятельности корпорации, в том числе и в части ее субъектного состава. Анализ некоторых норм корпоративного законодательства доказывает этот факт. Так, в пользу названного непоименованного в законе принципа свидетельствуют нормы, например о преимущественном праве покупки доли или части доли участника общества.
Думается, что в аналогичном смысловом ключе, учитывающем принцип стабильности деятельности корпорации в части ее состава, изложено правило об увеличении уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в общество. Так, согласно правилу, изложенному в п. 2 ст. 19 Закона об ООО, указанное увеличение может быть осуществлено только на основании решения участников общества, принятом единогласно.
Это означает, что принятие в общество нового участника или коррекция доли действующего участника с неизбежной коррекцией долей и других членов общества возможно только при условии единогласной поддержки такого решения.
Принцип стабильности деятельности корпорации обеспечивает стабильность гражданского оборота в целом, а применительно к тематике настоящей статьи может быть объяснен следующим образом: участники хозяйственного общества, принимая решение о вступлении в отношения, обусловленные договором конвертируемого займа, соглашаются на ожидаемое принятие займодавца в число участников общества в будущем и на уменьшение их доли / акций. Очевидно, что для участников такого общества личность займодавца небезразлична (если им выступает физическое лицо). Это обстоятельство усугубляется тем, что инвестор-займодавец, конвертируя заем в долю / акции, нередко становится участником, имеющим большинство голосов в хозяйственном обществе. Так, от него зависит принятие корпоративных решений и, как следствие, будущее корпорации и ее участников. Поэтому, соглашаясь на то, что при наступлении определенных обстоятельств, займодавец сможет конвертировать заем в корпоративные права, участники соответствующего хозяйственного общества не рассчитывают на то, что в их составе появится, например, наследник инвестора. Все сказанное в равной степени актуально и для тех случаев, когда займодавцем выступает юридическое лицо. Пользуясь методом «от противного», можно смоделировать следующую ситуацию: бизнес-ангел заключает договор конвертируемого займа с хозяйственным обществом, а затем уступает требования по этому договору конкурирующему с указанным хозяйственным обществом юридическому лицу, что впоследствии фактически приводит к недружественному поглощению.
Список литературы Правовые последствия перехода прав займодавца по договору конвертируемого займа
- Богданов, А. В. Правовое регулирование договора конвертируемого займа в корпоративных отношениях / А. В. Богданов // Ex jure. – 2022. – № 2. – С. 69–78.
- Иншакова, А. О. Оборот объектов гражданских прав имущественного характера: основные понятия, виды, тенденции законодательного развития / А. О. Иншакова // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2020. – Т. 19, № 1. – С. 6–15. – DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2020.1.1
- Ладыгина, В. П. Наследование прав и обязанностей из договора конвертируемого займа / В. П. Ладыгина // Нотариус. – 2022. – № 6. – С. 27–31.
- Матыцин, Д. Е. Розничное финансирование инвестиций посредством дистанционного цифрового компьютерного алгоритма / Д. Е. Матыцин // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2021. – Т. 20, № 2. – С. 150–158. – DOI: https://doi.org/ 10.15688/lc.jvolsu.2021.2.20
- Милохова, А. В. Конвертируемый заем как способ приобретения доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью / А. В. Милохова // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2022. – № 5. – С. 37–43.
- Определение Верховного Суда РФ от 22 октября 2013 г. № 64-КГ13-7 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Плеханов, Д. А. Договор конвертируемого займа как гарантия защиты интересов инвестора (анализ законопроекта № 972589-7) / Д. А. Плеханов // Право и экономика. – 2021. – № 9 (403). – С. 65–69.