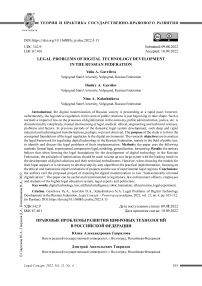Правовые проблемы развития цифровых технологий в Российской Федерации
Автор: Гаврилова Юлия Александровна, Гаврилов Дмитрий Анатольевич, Калашникова Нина Александровна
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Теория и практика государственно-правового развития
Статья в выпуске: 4 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение: цифровая модернизация российского общества идет быстрыми темпами, однако, к сожалению, законодательное регулирование в данной сфере общественных отношений только начинает формироваться. Такое нормативное воздействие права на процессы цифровизации в экономике, государственном управлении, правосудии и т. п. отличается сложностью, взаимным переплетением правовых, медицинских, этических, инженерно-технических наук, проблем и факторов. В прежние периоды развития отечественной правовой системы подобных глубоких и стремительных материально-технологических преобразований, пожалуй, не наблюдалось. Цель исследования: формирование концептуальных основ правового регулирования в цифровой среде. Задачи исследования: анализ законодательной базы регулирования цифровых технологий в Российской Федерации, главным образом в области публичного права, выявление и обсуждение правовых проблем их реализации. Методы: в статье используются методы формально-юридический, экспериментальный, сравнительно-правовой, моделирования, обобщения, прогнозирования. Результаты: авторы считают, что при формировании правовых основ развития цифровых технологий в РФ следует использовать принцип оптимизации: не отставать в значительной мере от ведущих трендов развития цифровых решений и их технических воплощений. Однако при выборе моделей их правового обеспечения необходимо разрабатывать пошаговые алгоритмы практического внедрения, ориентируясь на этико-гуманистическую экспертную оценку проектов и применение экспериментальных правовых режимов. Выводы: предложенный проект осмысленной цифровой модернизации в праве авторы называют «гуманистически ориентированной цифровизацией». Статья может быть полезна и рекомендована законодателю, правоприменителям, работникам и учащимся системы высшего юридического образования, экспертам и политикам.
Цифровые технологии, право, искусственный интеллект, робот, гуманизм, этические нормы, правовой эксперимент
Короткий адрес: https://sciup.org/149141515
IDR: 149141515 | УДК: 342.9 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2022.4.15
Текст научной статьи Правовые проблемы развития цифровых технологий в Российской Федерации
DOI:
Информационные правоотношения возникают и развиваются вслед за модернизацией технико-технологической базы экономики, в период «больших вызовов» [4, с. 61]. На сегодняшний день процесс информатизации российского общества, можно полагать, в основном близок к завершению, и следующим этапом следует считать его цифровизацию. В самом общем виде цифровизация – это максимально предельная, как правило, в социально полезном направлении оптимизация работы человека с информацией. «Цифра» – это дуальный образ мира в сознании человека посредством конструктов «0» и «1», «да» и «нет» и т. п.
Подчеркнем с одной стороны, что это новая эра освобождения человека от тотального господства материального начала в его жизнедеятельности, но с другой – упрощение образа сложного мира в человеческом восприятии может иметь негативные последствия и нести риски «переименования» господства над человеком «материального» в «цифровое». Тем не менее, если в отношении общих принципов информатизации общества законодательство нашей страны продвинулось далеко, то в части цифровизации можно заметить, что в Российской Федерации лишь обозначены контуры правовых основ развития цифровых технологий [7, с. 41].
Правовая база цифровизации общества формируется в рамках информационных правоотношений. В первую очередь, конституционные основы развития информационных технологий предопределяют и основные векторы их совершенствования в цифровые технологии.
В Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г. (в ред. от 04.07.2020), закреплены:
-
1) право граждан на свободный поиск и распространение информации за изъятиями, определенными законом (ч. 4 и 5 ст. 29);
-
2) право на неприкосновенность и тайну частной и семейной жизни, тайну связи (ст. 23);
-
3) ограничение конституционных прав, в том числе вышеназванных в интересах общества и государства (ч. 3 ст. 55).
Право граждан на свободный поиск и распространение информации в эпоху цифровых технологий
Реализация данных нормативных положений осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 (далее – Закон об информации).
Правовое регулирование информации строится в Российской Федерации главным образом по функциональному признаку, когда в определенном правовом режиме наполняется юридическим смыслом правосубъектность специфических участников информационных правоотношений, таких как:
-
1) организаторы распространения информации: мессенджеры, социальные сети и т. п.;
-
2) оператор поисковой системы;
-
3) новостной агрегатор и т. п.
Оператор информационной системы обязан принимать все зависящие от него меры для обеспечения конфиденциальности информации и предупреждения неправомерных действий с ней: модификации, уничтожения, блокирования, распространения и т. д. (ст. 16 Закона об информации):
-
1) удаление неправомерно размещенной информации с информационного ресурса;
-
2) ограничение доступа к информационному ресурсу, информационно-телекоммуникационной сети, продолжающих распространять неправомерную информацию, к копиям заблокированных сайтов;
-
3) возложение принудительной обязанности подключиться к ФГИС ресурсов и сетей, доступ к которым ограничен, для мониторинга работы этих сайтов и обеспечения соблюдения запретов на владельцев сайтов в сети Интернет, предоставляющих доступ к ресурсам и сетям нарушителей, и операторов поисковой системы, которые выдают ссылки на них по запросам пользователей;
-
4) создание публичного реестра информационных ресурсов, содержащих запрещенную в РФ информацию, обслуживаемо-
- го Роскомнадзором или уполномоченными организациями.
Несмотря на довольно подробную регламентацию в Законе об информации всех вышеназванных процедур, остается еще много проблемных вопросов.
Например, в процессе реализации новых цифровых прав необходимо соблюдать права на интеллектуальную собственность, так как одно конституционное право не может осуществляться в ущерб другому. Поэтому назрели пересмотр и унификация законодательных стандартов государств-участников ЕАЭС в целях преодоления барьеров для евразийской интеграции [6, с. 16].
Главная проблема, на наш взгляд, – это коллизия базовых ценностей свободы слова и распространения информации и общественных интересов по противодействию экстремизму и терроризму. Она вызвана возможными трудностями по разграничению публичного и частного в реализации ст. 29 Конституции РФ с учетом пределов действия ч. 3 ст. 55 Конституции РФ в информационной среде. Цель правоограничительных мер в адрес организаторов распространения информации – усилить охрану конституционного строя и общественной безопасности от актов информационного экстремизма и терроризма. Следовательно, ограничение прав граждан федеральным законом и расширение полномочий специальных органов в сфере информационной безопасности должны быть соразмерными, но поиск такой соразмерности defacto требует исключительно взвешенного и обдуманного подхода.
При установлении обязанности организаторов распространения информации и новостных агрегаторов хранить данные об электронных сообщениях пользователей в течение определенного периода времени рассматривались доводы о том, что реализация этих мер потребует больших затрат на приобретение сверхсовременного оборудования и строительство хранилищ данных, исчисляемых терабайтами, возложения их на операторов связи. Однако ажиотажный спрос на данную технику постепенно снизился. При этом стало очевидно, что увеличение цен на услуги связи зависит от множества других факторов, а не только определяется отсутствием бюджетной составляющей финансирования хранения данных.
Оппонентами приводился пример директивы 2006/24/ЕС о хранении метаданных от 6 до 24 месяцев, которая отменена решением Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) от 08.04.2014 № 54/14. Вместе с тем следует признать необоснованными утверждения о посягательствах на свободу информации в РФ по причине их всеобщности и отрыва от национального контекста.
Отметим, что решение ЕСПЧ мотивировано провокацией массового наблюдения и появления у абонентов длительного чувства тревоги из-за вмешательства в их личную жизнь и персональные данные. ЕСПЧ исходил из идеи о безусловном верховенстве либеральных прав и свобод, составляющих суть верховенства права и демократии в европейской культуре. Российский законодатель применяет другую модель баланса личной свободы и общественных интересов, руководствуясь тем, что последствия реально совершенных актов экстремизма и терроризма посредством использования информационного пространства несоразмерны и кратно могут превышать риски нарушения свободы слова.
В этой связи выскажем точку зрения, что свобода информации, рассматриваемая как конституционно значимая ценность, и выбранные для ее защиты способы нормативной регламентации не должны создавать смысловые расхождения между общественными интересами и правами личности. Соблюдение конституционного права на свободу информации реализуется органично в условиях урегулированного надлежащим образом порядка оборота информации, защиты публичных интересов, поскольку свобода не может быть отделена от процедур ее реализации.
Право на неприкосновенность и тайну частной и семейной жизни, тайну связи в цифровом пространстве
Наряду с Законом об информации, конституционное право на неприкосновенность частной и семейной жизни, тайну сообщений гарантируется Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 (далее – Закон о персональных данных).
Указанным Законом к персональным данным отнесены любые сведения о гражда- нине, что сформулировано чрезмерно широко. Однако в данном случае лучше более надежный правовой заслон поставить для манипуляций с персональными данными, к которым обычно относят идентификационные сведения: паспортные данные, уникальные номера налогового учета, социального и медицинского страхования, состав семьи и некоторые другие сведения.
Общий принцип применения Закона – получение согласия субъекта персональных данных на их обработку. Исключение (без согласия) составляют строго оговоренные Законом случаи: участие в рассмотрении судебных дел и исполнении судебных актов, в трудовых, социальных и пенсионных правоотношениями и т. п.
В практике применения Закона о персональных данных есть также немало затруднений. Одним из самых известных можно назвать, например, понятие тайны сообщений. В доктрине и законодательстве соответствующее понятие не сформулировано. В этой связи в судебной практике сложились два диаметрально противоположных подхода к его трактовке: 1) сами сообщения (количество, продолжительность соединений и т. д.); 2) содержание сообщений (о чем конкретно общался подозреваемый или обвиняемый с родственниками, соучастниками и пр.). От решения данного вопроса зависят пределы ограничений конституционного права на неприкосновенность частной жизни. Эта проблема имеет ключевое значение на современном этапе развития информационных технологий, а еще более возрастет ее значимость в период становления цифровых технологий, использующих новые способы кодирования / декодирования информации. Это относится, разумеется, и к криминалистическим методикам расследования преступлений в новом цифровом обществе.
Оказание публичных услуг в период цифровизации
Информационные правоотношения широко развиваются в публичном праве между государственными, муниципальными органами, подведомственными им организациями, с одной стороны, а также юридическими и физическими лицами-заявителями, с другой. Данная сфера деятельности публичной влас- ти регламентируется Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27.07.2010 (далее – Закон о государственных и муниципальных услугах). Обращение гражданина в устной или письменной форме к органу власти постепенно переходит в цифровое измерение, что связано со многими причинами, например, снижения коррупционной нагрузки на граждан и бизнес [8, c. 77–82]. Для предоставления государственных и муниципальных услуг создается и ведется Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГМУ).
Основными проблемами реализации Закона о государственных и муниципальных услугах всегда были и остаются вопросы об их перечнях и способах оказания, ибо:
-
1) не все публичные услуги по правовой природе могут оказываться в электронной форме (утверждаются и периодически обновляются реестры государственных и муниципальных услуг);
-
2) в текущей стадии развития информационных технологий оговорено оказание государственных и муниципальных услуг через специализированные многофункциональные центры по их предоставлению (МФЦ) либо непосредственно при обращении к государственному, муниципальному органу.
Соответственно можно отметить тенденцию постоянного расширения объема публичных услуг, оказываемых в электронной форме органами власти по принципу «одного окна». Нормативными документами утверждаются и регулярно пересматриваются целевые показатели (в процентах от общего объема услуг) перехода соответствующего ведомства на «электронные» услуги.
Совершенствуются процедуры оказания публичных услуг. По достаточному количеству услуг переведен на электронный формат и процесс, и результат их оказания (например, справка об отсутствии судимости). Процесс оказания определенных услуг осуществляется в электронной форме через ЕПГМУ. Результат их оказания (юридически значимый документ) выдается при личном обращении в уполномоченный административный орган или МФЦ: водительские права, паспорт гражданина РФ и др.
Некоторые публичные услуги требуют повышенных правовых гарантий безопасности граждан и организаций, минимизации системных рисков, в частности, цифровой оборот недвижимости [1, c. 3–5]. Остро ощущается необходимость системной корреляции цифровых объектов и цифровых прав, уточнения статуса цифровой валюты в современный «санкционный» период и т. п. [3, с. 155, 156].
Полный цифровой вариант оказания этих услуг будет возможен после разработки эффективного правового регулирования, безопасного программного обеспечения и выпуска в обращение цифровых водительских прав, цифровых удостоверений личности, иных документов, содержащих биометрические данные и т. п.
Правовые проблемы развития робототехники и искусственного интеллекта
О необходимости правового регулирования внедрения в жизнь человека и общества робототехники и систем искусственного интеллекта в настоящее время остро дискутируют ученые разных отраслей знания на научных площадках.
Особенность развития этих цифровых технологий состоит в их рисковом характере, почти полной непредсказуемости последствий и неопределенности их влияния на судьбу человека и эволюцию современного информационного общества [5, c. 16]. Основная дилемма, стоящая перед законодателями и иными заинтересованными лицами, заключена в требованиях совместить научнотехнический прогресс с его «тонким» правовым обеспечением, что целесообразно путем введения не только этико-правовой регуляции, но и проведения предварительной гуманитарной экспертизы этих законопроектов в гражданском обществе(внедрение механических устройств в человеческое тело – хрестоматийный пример).
Указом Президента РФ «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» № 490 от 10.10.2019 утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. (далее – Стратегия).
Однако вряд ли можно согласиться с утверждениями разработчиков Стратегии о процедурах упрощенного тестирования и внедрения в юридическую практику технологий искусственного интеллекта. К тому же какие решения, принятые искусственным интеллектом, могут ущемлять права и законные интересы граждан (оценочное суждение) не ясно, а также какие из них способны повлиять на функционирование систем безопасности человека, общества и государства не определено (п. 49 Стратегии).
На наш взгляд, использование экспериментальных правовых режимов обращения технологий и решений на базе искусственного интеллекта заключено не в упрощении и скорости их внедрения в практику, а в осторожной экспертной оценке, исходя из гуманистических критериев, установленных Конституцией РФ. Этика взаимоотношений человека и искусственного интеллекта не должна принципиально отличаться от гуманистической этики, направленной на сохранение жизни и естественной природы человека. Именно последняя и должна определять содержательный смысл нового цифрового правового регулирования.
Распоряжением Правительства РФ № 2129-р от 19.08.2020 утверждена Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 г. (далее – Концепция).
Концепция провозглашает человекоориентированную и риск-ориентированную модели взаимоотношения человека и роботизированной техники при введении экспериментальных правовых режимов. Более продуктивным выглядит механизм экспертного участия в обсуждении ключевых вопросов повестки Концепции: комплексная оценка социально-экономических, научнотехнологических и гуманитарных рисков наступления последствий воздействия техники на человека, бизнес и общество, государство; сочетание обоснованных научных исследований с широким обсуждением в экспертных кругах гражданского общества. Очевидно, что разработку робототехники, умышленно причиняющей вред жизни и здоровью человека, надо не ограничивать, а запрещать (гл. 3 Концепции).
В связи с этим возникает еще одна философско-правовая проблема: зачем человеку робот и искусственный интеллект в правовом регулировании, в частности, в уголовном судопроизводстве? Уголовно-процессуальный кодекс РФ № 174-ФЗ от 18.12.2001 (с изм. и доп.) предусматривает лишь понятия «электронный носитель информации», признанный или не признанный в качестве вещественного доказательства (ст. 81.1, 82 и др.), а также «электронное средство контроля за соблюдением обвиняемым или подозреваемым запретов» (ст. 105.1).
Цифровизация уголовного судопроизводства связана с новыми конструкциями «электронного уголовного дела», «электронных процессуальных действий», «электронного» расследования», «электронного правосудия» и т. п. Однако концепция «электронного уголовного дела», предполагающая «встраивание» системы искусственного интеллекта в процедуру приема регистрации, направления сообщений о преступлениях по подследственности, не означает утрату полного контроля человека над действиями машины. Принципиально, что дознаватель или следователь должен выступать «модератором» этого процесса, а не участником или статистом.
Тем не менее очевидно, что искусственный интеллект незаменим в процессе расследования финансовых мошенничеств и хищений: для анализа поведения программ-вымогателей, направленных на сбор персональных данных, их перемещение в даркнет и незаконную продажу, использование неавторизованных сервисов для легализации «грязной» криптовалюты и пр. [2, c. 66].
Ключевую роль приобретает обеспечение информационной безопасности при перспективном хранении цифровых сканированных образов электронных носителей информации, изъятых в ходе следственных действий, и копировании с них данных. Ведь предъявить и использовать «цифровое» вещественное доказательство довольно проблематично. Правовое регулирование цифровых технологий в уголовном судопроизводстве должно приводить к достижению целей и предназначения уголовного процесса: защита прав потерпевших от преступлений и защита прав обвиняемых от необоснованного осуждения. Доказательств того, что эти задачи будут эффективно решаться искусственным интеллектом, сегодня наукой еще не собрано.
Выводы
Таким образом, защита конституционных прав граждан в период цифровизации российского общества осуществляется в тесной связи и зависимости от соблюдения общественных интересов. При этом общественный интерес во внедрении автоматизированных цифровых технологий состоит в максимальной защите личности от негативных рисков их воздействия.
Правовые основы развития цифровых технологий в РФ должны базироваться не только на существующих информационных технологиях, но и самостоятельно формироваться в рамках модели «гуманистически ориентированной цифровизации», основанной на идеях этической экспертизы и экспериментальных правовых режимов.
Список литературы Правовые проблемы развития цифровых технологий в Российской Федерации
- Болдырев, В. А. Имущественные комплексы и цифровые технологии: направления и границы совершенствования публичных реестров / В. А. Болдырев, А. А. Новоселова // Правовые вопросы недвижимости. - 2022. - № 1. - С. 3-9.
- Зайцев, А. К. Экономические преступления с использованием цифровых технологий / А. К. Зайцев, В. В. Матвеев // Национальная безопасность и стратегическое планирование. - 2022. - № 1 (37). - C. 63-81.
- Инжиева, Б. Б. Влияние цифровых технологий на правовое регулирование гражданского оборота / Б. Б. Инжиева // Евразийский юридический журнал. - 2022. - № 3 (166). - С. 155-158.
- Кононенко, Д. В. "Большие вызовы" как фактор трансформации государственно-правовых отношений / Д. В. Кононенко // Правовая парадигма. - 2021. - Т. 20, № 3. - С. 58-65. -.
- Корнев, А. В. Цифровые технологии, правовые риски и проблема их минимизации / А. В. Корнев // Актуальные проблемы российского права. - 2021. - Т. 16, № 9 (130). - С. 11-20.
- Лопатин, В. Н. Цифровые права и цифровые технологии в цифровой экономике / В. Н. Лопатин // Информационное право. - 2021. - № 4. - С. 14-17.
- Минбалеев, А. В. Проблемы правового регулирования цифровых технологий / А. В. Минбалеев // Право и цифровая экономика. - 2020. - № 2 (8). - С. 41-43.
- Попова, С. А. Применение цифровых технологий в борьбе с коррупцией / С. А. Попова // Российский правовой журнал. - 2021. - № 3 (8). - С. 75-87.