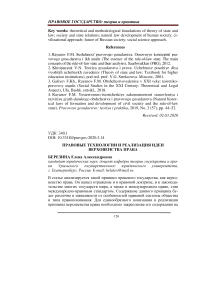Правовые технологии и реализация идеи верховенства права
Автор: Березина Елена Александровна
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Статья в выпуске: 3 (61), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется такой принцип правового государства, как верховенство права. Он нашел отражение и в правовой доктрине, и в законодательстве многих государств мира, а также в международном праве, став международно-правовым стандартом. Содержание данного принципа будет различно в зависимости от особенностей правовой системы общества и типа правопонимания. Для единообразного понимания и реализации принципа верховенства права необходимо закрепление его содержания на уровне Конституции РФ. В работе обосновывается положение, согласно которому в реализации идеи верховенства права и конституирования ценностей правового государства в Российкой Федерации особую роль играют правовые технологии, позволяющие осуществить синтез юридической науки, юридической практики и юридического образования в целях преобразования и совершенствования правовой системы общества.
Правовое государство, верховенство права, правовая технология, образовательные правовые технологии, правотворческая технология, правоприменительная технология, интерпретационная технология
Короткий адрес: https://sciup.org/142234061
IDR: 142234061 | УДК: 340.1
Текст научной статьи Правовые технологии и реализация идеи верховенства права
В конституциях многих государств мира закреплены положения, согласно которым данные государства являются правовыми. Такие нормы права содержатся в ч. 1 ст. 1 Конституции Испании, ст. 1 Конституции Чехии, ч. 1 ст. 4 Конституции Болгарии, ст. 5 Конституции Китая и в основных законах многих других государств. При одинаковом обозначении понятия «правовое государство»: «État de droit» (Франция), «Stato di diritto» (Италия), «Rechtsstaat» (Германия), «Estado de Derecho» (Испания), его содержание – совокупность внутренних признаков правового государства, которые составляют данное понятие, – может быть различным. Чаще всего содержание понятия «правовое государство» существует на доктринальном уровне и не раскрывается на уровне законодательства. Например, известный российский юрист В.М. Гессен (1868–1920), развивавший в своих работах концепцию правового государства, обосновавший необходимость существования системы сдержек и противовесов, в качестве правового рассматривал «государство, которое признает обязательным для себя как правительства создаваемые им же как законодателем юридические нормы» и которое «связано и ограничено правом» [1, с. 11]. Философскую основу теории правового государства можно найти в работах И. Канта, утверждавшего, что центральным элементом в правовом государстве выступает, прежде всего, личность, а право должно обладать верховенством: «Итак, можно сказать: природа неодолимо хочет, чтобы право получило в конце концов верховную власть» [2, с. 421], и Г. Гегеля, рассматривавшего государство как самую совершенную организацию общественной жизни, а право признававшего самым совершенным регулятором среди всех социальных регуляторов, говоря о нем, что «это свобода в ее самом конкретном образе, подчиненная лишь высшей абсолютной истине мирового духа» [3, с. 95].
Хотя есть примеры, когда непосредственно в тексте конституции содержится прямое перечисление принципов правового государства. Например, ст. 5 Конституции Швейцарской Конфедерации называется
«Принципы правового государства» и в своем тексте последовательно их раскрывает 1 .
В целях унификации подходов к пониманию правового государства, обеспечения единообразия толкования данного понятия мировым сообществом неоднократно предпринимались попытки закрепить в источниках права основные принципы деятельности правового государства, одним из которых выступает принцип верховенства права. Так, уже в 1948 г. Всеобщая декларация прав человека содержала в абз. 3 преамбулы положение, согласно которому при провозглашении Декларации принимается во внимание необходимость защиты прав человека посредством реализации принципа верховенства права 2 . В официальном переводе Декларации на русский язык 3 выражение «rule of law», содержащееся в этом абзаце, переводится как «власть закона», хотя более точным переводом его будет являться именно «верховенство права», поскольку в международном праве источниками права выступают чаще всего не нормативно-правовые акты, разновидностью которых является закон, а нормативные договоры, правовые обычаи и принципы права. Поэтому использование выражения «верховенство права», являющегося в данном случае родовым по отношению к словосочетанию «верховенство закона», более точно отражает смысл положения, закрепленного в абз. 3 преамбулы анализируемой Декларации. Кроме того, если при переводе данного словосочетания учитывать еще и различные типы правопонимания, то более корректным будет также перевод «верховенство права», поскольку перевод «власть закона» отражает только позитивистскую концепцию право-понимания. Хотя есть и точка зрения, что в данной Декларации ООН «говорится только о верховенстве закона», а принцип верховенства права на международном уровне был закреплен впервые в 1949 году в Уставе Совета Европы и продублирован в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950) [4, с. 6].
Таким образом, правотворчество международного сообщества в лице ООН и других международных организаций «сделало принципы право- вого государства международно-правовыми стандартами»4. Они были восприняты многими государствами, закрепившими в основных законах не только правовой характер власти государства, но и раскрывшими содержательные характеристики тех или иных принципов правового государства. Так, в ст. 7 Конституции Республики Беларусь закреплен принцип верховенства права, который получает в тексте развернутую характеристику 5.
В Российской Федерации данный международно-правовой стандарт закреплен в ст. 1 Конституции РФ, устанавливающей, что Российская Федерация – правовое государство. При этом многие авторы подчеркивают, что «правовое государство – это единственно приемлемое и уникальное средство для формирования так необходимого нам справедливого общества, опирающегося на принципы верховенства права» [5, с. 10].
Но для того, чтобы это положение из разряда целей перешло и воплотилось в конкретный социально-правовой результат, необходимы специальные юридические механизмы «перевода», трансформации этой цели, иначе говоря, «должны быть разработаны соответствующие социальные технологии реализации идей и ценностей правового государства в обществе» [5, с. 6].
Одним из видов таких социальных технологий выступает правовая технология – планомерно осуществляемая деятельность, направленная на преобразование правовой действительности и достижение определенного правового результата, с помощью которой можно не только оптимизировать государственно-правовое строительство, но и повысить ценность права в жизни общества.
Правовыми технологиями реализации идей и ценностей правового государства в обществе будет являться как научная, так и практическая юридическая деятельность, направленная на преобразование правовой действительности, утверждение в обществе ценностей права и принципов правового государства.
Во-первых, к правовым технологиям может быть отнесена теоретическая научная деятельность юридического сообщества, нацеленная на изучение сущности и содержания принципа верховенства права как одного из принципов правового государства. В настоящее время сущность и роль данного принципа в российской правовой системе исследуется только на уровне научных статей [4; 5; 7; 8], диссертационные исследования российских правоведов, посвященные принципу верховенства права, отсутствуют, авторы анализируют лишь отдельные вопросы, связанные с данным принципом: верховенство закона [9], верховенство прав и свобод человека и гражданина [10] либо роль данного принципа в правовых системах других государств [11]. Вместе с тем, как отмечает Т.В. Синюкова, идея верховенства права в настоящее время превратилась в реальный фактор политико-правового развития государств, стала основой национальных программ развития права, стала определять глобальное направление правового развития, фактически объясняя исходные и конечные пункты движения права, программируя образ действий государств в правовой сфере [6, с. 161]. Поэтому требуются более глубокие научные разработки, касающиеся анализа сущности, содержания и роли принципа верховенства права в российской правовой системе.
Как отмечают ученые, «необходима система технологий мониторинга общественных проблем и их отражения в массовом правосознании» [12, с. 120]. Например, на претворение в жизнь принципов правового государства и реализацию принципа верховенства права направлена деятельность созданного в 2005 г. в Российской Федерации Ф.М. Раяновым Научно-исследовательского института проблем правового государства (г. Уфа), учредившего журнал «Правовое государство: теория и практика», а также Научно-исследовательского центра правового обеспечения административной реформы, правового мониторинга и антикоррупционной экспертизы УрГЮУ (г. Екатеринбург) 6 , использующих в своей деятельности правовые технологии мониторинга, правовой экспертизы, прогнозирования последствий принятия правотворческих решений. «Формирование высокотехнологичной юриспруденции – это путь к оптимизации юридической деятельности … созданию условий для управляемого правового развития…» [13, с. 5].
Во-вторых, важную роль в формировании профессионального правосознания юристов и утверждении ценностей правового государства играют образовательные правовые технологии. Необходимо детальное освещение принципа верховенства права, а также иных принципов правового государства в учебной юридической литературе по конституционному и международному праву, теории государства и права, философии права, а также применение в процессе их преподавания новейших юридических технологий, которые позволили бы обеспечить повышение эффективности образования, ориентацию на последующую юридическую практику, на преобразование правовой действительности в целях реализации принципа верховенства права с использованием современных достижений юридической науки. Необходимо использование возможностей юридических клиник, существующих в юридических вузах, научноисследовательских и образовательных юридических центров, обращение к интерактивным методам обучения, проектному обучению, модельным процессам, правовым деловым играм, составлению проектов нормативноправовых, интерпретационных, правореализационных и правоприменительных актов, привлечение студентов к исследованию сравнительных характеристик различных правовых систем с целью выявления различий в понимании принципа верховенства права в разных государствах, в том числе и путем академических обменов. Кроме того, требуется более тесное сотрудничество с государственными органами и частными юридическими компаниями не только на стадии прохождения производственной практики, но и в течение всего процесса обучения с целью получения практического опыта реализации права и обнаружения недостатков правового регулирования, проблем претворения в жизнь принципа верховенства права для последующего их устранения во время будущего осуществления практической юридической деятельности.
Так, в Уральском государственном юридическом университете популярным сейчас в юридическом сообществе правовым технологиям медиации обучают в Центре правовой медиации УрГЮУ 7. На претворение в жизнь принципа верховенства права направлена и деятельность Центра правовых экспертиз и консалтинга 8, которые тоже являются примерами правовых технологий. В зарубежных странах юридические образовательные учреждения еще активнее используют правовые технологии: в Университете Дьюка (С. Каролина, США) создан специальный «инкубатор» Duke Law Tech Lab, занимающийся инновациями в сфере правовых технологий 9, на юридическом факультете Гарвардского университета функ- ционирует юридическая клиника 10, в которой, студенты применяют полученные на занятиях навыки на практике.
В-третьих, большое значение для обеспечения эффективности функционирования отечественной правовой системы и ее развития в соответствии с международными правовыми стандартами, в том числе в соответствии с идеями правового государства и верховенства права, имеют юридические технологии осуществления практической юридической деятельности, начиная с технологий правотворческой (как на международном, так и на внутригосударственном уровне) и заканчивая интерпретационными и правореализационными технологиями.
Например, В.Е. Чиркин считает, что необходимо закрепить принцип верховенства права в Конституции РФ, а также его «краткое уточняющее понятие» [4, с. 10]. Тем не менее среди многочисленных поправок в Конституцию РФ понятию «верховенство права» места не нашлось. Кроме того, можно было задействовать потенциал интерпретационных правовых технологий – включить в текст акт официального толкования понятие «верховенства права» и раскрыть его содержание с помощью обозначения существенных признаков. Поскольку право действует в четырех основных пределах, то было бы обосновано при раскрытии понятия «верховенство права» опираться на данные пределы. При этом мы смогли бы обнаружить новые грани данного принципа: в рамках действия права по кругу лиц верховенство права означало бы приоритет интересов личности, прав и свобод человека и гражданина; в рамках территориальных пределов действия права – решение вопроса о соотношении международного и внутригосударственного права, федерального права и права субъектов Федерации; в рамках действия права во времени – приоритет «актуального», действенного и действительного права, которое в том числе отвечает объективным потребностям общества; в рамках предметной сферы – приоритет права как социального регулятора перед другими социальными регуляторами. В правотворческой сфере обеспечению реализации идеи верховенства права служат правовая технология правовой экспертизы, а также гармонизации законодательства [14], в сфере право-реализации и применения – правовые технологии мониторинга реализации принципа верховенства права на практике. Так, Ф.М. Раянов пишет о том, что сейчас «в соответствии с международными нормами на мировом уровне осуществляется мониторинг обеспеченности принципа верховенства права в разрезе различных стран. В этих условиях и нашему сего- дняшнему российскому обществу в целом, включая и наши отечественные юридические науки, необходимо научиться организовывать общественную жизнь и вести ее в соответствии с такими представлениями о праве» [15, с. 32].
В итоге своеобразный треугольник «юридическая наука – юридическое образование – юридическая практика», отражающий взаимосвязь этих трех явлений, позволит наглядно продемонстрировать единство научной, образовательной и практической юридической деятельности при реализации принципа верховенства права, что обеспечивается существованием правовой технологии, аккумулирующей в себе все эти виды юридической деятельности. Авторы говорят об интеграционной природе юридических технологий, «отражающей способность упорядочивать юридическое производство в целях объединения различных его разрозненных элементов» [16, с. 5]. К сказанному можно добавить, что интеграционная природа правовой технологии состоит и в том, что данная деятельность позволяет анализировать правовую действительность одновременно с точки зрения и юридического образования, и юридической науки, и юридической практики. Основоположник технологии как научного направления И. Бекман подчеркивал, что именно технология, основанная на научном знании и оптимальном его использовании на практике, всегда является чем-то большим, чем просто практикой или теоретическим знанием, «редким искусством и непостижимой тайной 11 .
Таким образом, реализация идеи верховенства права и ценностей правового государства может быть достигнута только при комплексном использовании всех видов юридических технологий.
Список литературы Правовые технологии и реализация идеи верховенства права
- Гессен В.М. Понятие правового государства // Правовое государство и народное голосование. К реформе государственного строя России. СПб.: Изд. Н. Глаголева, 1906. Вып. 2. С. 11-18.
- Кант И. К вечному миру // Кант И. Соч.: в 4 т.: на нем. и рус. яз. Т. 1. Трактаты и статьи (1784-1796). М.: Издательская Фирма АО "Ками", 1993.
- Гегель Г.В.Ф. Философия права: пер. с нем. / ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц. М.: Мысль, 1990.
- Чиркин В.Е. Верховенство права: современные варианты терминологии // Журнал российского права. 2015. № 12 (228). С. 5-11.
- EDN: VHEOHV
- Раянов Ф.М. Сущность правового государства. Основные концепции правового государства и их анализ. Саарбрюккен, 2012.
- EDN: VNWDWD