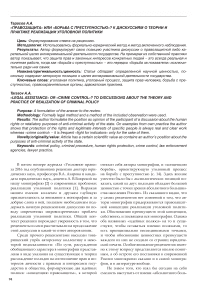"Правозащита" или "борьба с преступностью"? К дискуссиям о теории и практике реализации уголовной политики
Автор: Тарасов Александр Алексеевич
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Правосудие и правоохранительная деятельность в Евразийском пространстве
Статья в выпуске: 1 (26), 2017 года.
Бесплатный доступ
Цель: Формулирование ответа на рецензию. Методология: Использовались формально-юридический метод и метод включенного наблюдения. Результаты: Автор формулирует свою позицию участника дискуссии о правозащитной либо карательной целях антикриминальной деятельности государства. На примерах из собственной практики автор показывает, что защита прав и законных интересов конкретных людей - это всегда реальная и понятная работа, тогда как «борьба с преступностью» - это нередко «борьба за показатели» исключительно ради них самих. Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью, поскольку содержит авторскую позицию о целях антикриминальной деятельности государства.
Уголовная политика, уголовный процесс, защита прав человека, борьба с преступностью, правоохранительные органы, адвокатская практика
Короткий адрес: https://sciup.org/140225034
IDR: 140225034
Текст научной статьи "Правозащита" или "борьба с преступностью"? К дискуссиям о теории и практике реализации уголовной политики
В пятом номере журнала «Уголовное право» за 2016 год опубликована рецензия доктора юридических наук, профессора В.А. Азарова и кандидата юридических наук, доцента А. В.Боярской на нашу монографию [2] о современных проблемах реализации уголовной политики [1]. Выражая нашим омским коллегам и друзьям глубокую признательность за внимание к монографии и за добрые слова о ней, полагаем необходимым поддержать начатую рецензентами дискуссию по поводу современных мировоззренческих проблем реализации уголовной политики. Общий контекст рецензии порождает уверенность в том, что рецензенты и сами рассчитывали на продолжение этой дискуссии и какой-то ответ авторов книги.
Среди прочего рецензентами высказан товарищеский упрёк авторскому коллективу в некоторой недосказанности: «По сути, рассуждения обобщающего характера в монографии представлены в виде указания на существующее в теории расхождение взглядов на соотношение прав и интересов личности с правами и интересами государства и общества, формирующее два идейных полюса: «концепцию правозащиты», к которой относят себя авторы монографии, и «концепцию борьбы», ориентирующую уголовный процесс на борьбу с преступностью (с. 14). Здесь вполне уместно было бы с аксиологических позиций показать, какой из двух подходов обладает большей ценностью с точки зрения абсолютного большинства населения России». Из сказанного видно, что у самих рецензентов нет сомнений в том, что авторы монографии придерживаются правозащитной концепции реализации уголовной политики. Обоснованию преимуществ этой концепции, собственно, и посвящена вся монография. Однако оба названных «идейных полюса» на то и существуют, чтобы оставаться именно полюсами, то есть принципиально несоединимыми точками, и чтобы обоснование ценностных преимуществ каждого из них не сходило со страниц юридической печати. Особое внимание рецензентов именно к этому вопросу представляется вполне понятным, а об остроте его постановки в современной России многократно сказано и в самой монографии, и в литературе вообще.
Не знаем того, кто взял бы сегодня на себя смелость выступать от имени «абсолютного боль- шинства населения России». Когда-то именно так поступали большевики, объясняя необходимость «красного террора» или расстрела царской семьи. И действительно: ни царская семья, ни даже всё дворянство или духовенство большинством населения России не были никогда. Однако были ли массовые внесудебные и судебные репрессии на пользу России или абсолютному большинству её населения в итоге? Едва ли найдется такой странный человек, который станет вдруг утверждать, что уважающее себя государство не должно бороться с преступностью. В нашей книге о реализации уголовной политики таких утверждений, разумеется, нет, и рецензенты ничего похожего не отмечают. Более того, нами с самого начала оговорена условность употребления терминов, с помощью которых в литературе принято обозначать отмеченные «идейные полюса». Но мы попытались наглядно показать, что «борьба с преступностью» и «нулевая терпимость» к ней в современной российской практике нередко оборачиваются вполне будничной «борьбой» за одни статистические показатели и «нетерпимостью» к другим статистическим показателям. Статистической отчетности правоохранительных органов и проблемам её достоверности в книге, к слову, посвящены специальные разделы. В реальной жизни «борьба с преступностью», при всей парадной красоте звучания этих слов, – это борьба против некоего абстрактного демона, тогда как правозащита – это тоже борьба, но борьба за конкретного человека, нуждающегося в помощи государства и имеющего право на нее рассчитывать. «Абсолютное большинство населения России» – это именно конкретные люди. В уголовном процессе эти люди появляются в случаях обращения с заявлениями о совершенных в отношении них преступлениях или по каким-то иным причинам. И тогда они приобретают процессуальный статус заявителя о преступлении, потерпевшего, свидетеля, понятого, присяжного заседателя, обвиняемого, подозреваемого и т. д., оставаясь при этом людьми. И всем этим людям, на наш взгляд, гораздо важнее, как государство защищает их права и законные интересы в конкретном случае, как оно обращается лично с ними, чем то, как успешно это государство борется против неосязаемого монстра – некой абстрактной преступности. О преступности вообще люди узнают из телевизора, интернета и из других средств массовой коммуникации, о конкретных преступлениях – из собственной жизни. Среди прочего, надо заметить, люди из тех же источников узнают, что вчерашние «борцы с преступностью», которые еще недавно сами довольно много говорили об этой своей борьбе, сегодня, оказывается, пойманы с поличным при получении взятки и сразу же оказались по другую сторону баррикад от тех, кто теперь тоже борется с преступностью. Что со всеми этими «борцами» произойдет завтра – неизвестно, а вот как конкретные должностные лица поступают сегодня лично с ним, способен понять каждый – и представитель «абсолютного большинства населения», и какой-нибудь исключительный уникум «не от мира сего». О «борьбе с преступностью» гораздо легче отрапортовать «по начальству» или заявить в СМИ без риска быть уличенным во лжи: абстрактная преступность не пишет жалоб и возразить не может. С конкретными людьми гораздо сложнее: они ведь могут и не согласиться, что в их конкретном случае и преступление было действительно раскрыто, и похищенное имущество найдено, и руки «борцов» остались чистыми. Вот и получается, что борьба с преступностью имеет смысл лишь постольку, поскольку в ходе этой борьбы защищаются права, свободы и интересы конкретных людей, а во всех других случаях это не более чем громкие слова и банальное очковтирательство. Наша книга о реализации уголовной политики прежде всего именно об этом.
Важно отметить, что наиболее активные сторонники концепции «борьбы с преступностью» (название, повторимся, условное) обычно апеллируют к необходимости защиты прав и законных интересов потерпевшего, который, по мнению многих авторов, в том числе В.А. Азарова и А.В. Боярской, защищен российским уголовнопроцессуальным законом хуже, чем обвиняемый или подозреваемый. Потерпевшие от преступлений, представителем которых на практике довелось быть автору этих строк, страдали вовсе не от несовершенства российского закона и не от того, что какая-то неведомая сила проявляет избыточную лояльность в отношении преступников. Потерпевшие в современном российском уголовном процессе страдают от бездушия конкретных чиновников, не способных и не желающих защищать ничего, кроме собственных кресел, кабинетов и погон. И защищается всё названное, прежде всего, от назойливых граждан, которые мешают чиновникам работать своими бесконечными обращениями и проблемами. Двадцать лет адвокатской практики и работы в качестве советника Уполномоченного по правам человека в Самарской области убедили автора настоящей статьи и ответственного редактора рецензируемой монографии, что государство, не способное защитить права одних своих граждан, оказывается столь же беспомощным в защите прав и интересов всех остальных.
Приведем несколько очень разных по своему фактическому содержанию примеров из этой практики, начав с тех из них, в которых речь шла о защите прав именно потерпевших.
По уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении 22-летней Ч., совершенных группой лиц (Самара, 1999 год), преступление было раскрыто «по горячим следам», подозреваемые были задержаны и заключены под стражу в течение первых суток, а впоследствии исчерпывающе изобличены и осуждены к реальному лишению свободы. У потерпевшей, представителем которой был автор, казалось бы, были все основания считать свои интересы защищенными. Если бы не одна деталь: следователь направо и налево рассказывал и об успешном раскрытии преступления, и об обстоятельствах этого уголовного дела, и о происшедшем вообще. У потерпевшей Ч. на беду оказалось довольно много общих знакомых со следователем в силу обстоятельств, не связанных с производством по делу. К пережитой личной трагедии у всей семьи потерпевшей добавилась ещё одна – широкая огласка случившегося. И если первая трагедия случилась по вине наказанных злодеев, то вторая – исключительно по вине государства, которое представлял не очень умный и не очень добросовестный человек. И едва ли этой семье есть дело до того, что это просто конкретный плохой следователь нарушал прямое требование ст. 161 УПК РФ, и что не все следователи такие непрофессиональные. Эти люди обратились за помощью к государству и получили урок на всю оставшуюся жизнь: к этому государству лучше за помощью не обращаться, ибо возникшие проблемы могут перевесить решенные. В нашем контексте отметим: в том-то и разница между «борьбой» и «защитой» – в пылу «борьбы» не до мелочей, а частная жизнь конкретных людей – это мелочь в сравнении с великим делом борьбы с преступностью.
Сходный урок от общения с государством получила семья М., младший представитель которой – молодой врач – был избит охранником ночного клуба, о чем и было подано заявление в милицию (Самара, 2002 год). Следы побоев были своевременно зафиксированы в экспертном учреждении, конкретный охранник найден и опознан, потерпевший и очевидцы происшедшего дали непротиворечивые показания, позволявшие сопоставить отдельные фрагменты происшествия и восстановить всю его картину. Уголовное дело было возбуждено без промедления, но через некоторое время следствие было приостановлено ввиду «неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Потерпевший и его отец недоумевали: опознанный охранник работает на прежнем месте, никуда не скрывается, а «лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено» без каких бы то ни было объяснений. При этом не высказывалось никаких упрёков заявителю по поводу заведомой лжи при подаче заявления о возбуждении уголовного дела, при даче первоначальных объяснений и более поздних показаний. Обжалования приостановления производства по делу начальнику следственного отдела и прокурору результатов не давали: следствие не возобновлялось, и вразумительных объяснений о фактических основаниях его приостановления ни потерпевший, ни его представитель не получали. Время шло. В ответах на жалобы, как это довольно широко распространено в современной практике, цитировалась сама жалоба, само обжалуемое решение, и делался стандартный вывод о том, что это решение является законным и обоснованным и отмене не подлежит, поскольку оно «принято в установленном законом порядке». Возникла «патовая» и столь же широко распространенная на практике ситуация: уголовное дело не прекращено, но и делать по нему никто ничего не собирается. Через некоторое время после подачи жалобы в суд адвокат узнал от отца потерпевшего (с которым в своё время и было заключено соглашение на ведение дела), что избивший его сына охранник почему-то оказался на днях госпитализированным с переломами обеих ног. Адвокату одновременно сообщили, что семья потерпевшего уже потеряла к этому уголовному делу юридический интерес, а потому в услугах представителя они больше не нуждаются. Что именно произошло тогда с охранником на самом деле, осталось тайной, но совершенно очевидно, что действиями государства, «боровшегося с преступностью» на каких-то, видимо, других рубежах, эти конкретные люди, обратившиеся к государству за помощью, остались недовольны и имели для этого основания.
Следующий пример – из другой сферы и из другого региона. С пластиковой банковской карты Ш. без её ведома произошло списание денег – тремя платежами в течение 3-х минут на общую сумму около 10 тысяч рублей (Уфа, 2013 год). Карта была немедленно заблокирована её владелицей по телефону банка. Ш. сразу же обратилась в офис банка с заявлением об оспаривании списания, но служащие банка, приняв это заявление, одновре- менно разъяснили, что Ш. должна обратиться в полицию с заявлением о совершенном в отношении неё преступлении, а уже на основании принятого правоохранительными органами процессуального решения банк может принять меры по возмещению причиненного вреда. Ш. так и поступила: в дежурную часть отделения полиции было подано заявление о совершенном преступлении, и началась его проверка в порядке ст. 144 УПК РФ. По истечении предусмотренного законом 10-суточного срока проверки следователь, ее проводивший, по телефону известил заявительницу о том, что он вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Следователь честно сообщил, что он принял такое решение вовсе не потому, что он на самом деле не усматривает признаков преступления, а с единственной целью – если заявительница обжалует это постановление прокурору, то тот непременно отменит постановление и тем самым автоматически продлит срок проверки по её заявлению. В резолютивной части постановления, направленного по почте в адрес заявительницы, было два пункта: об отказе в возбуждении дела по её заявлению и об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении неё самой ввиду отсутствия в её действиях признаков другого преступления – заведомо ложного доноса. Заметим, что чьего-либо заявления о заведомо ложном доносе, якобы совершенном Ш., в правоохранительные органы не поступало. Стало быть, предусмотренного в ст. 140 УПК РФ повода для возбуждения уголовного дела о заведомо ложном доносе, строго говоря, не было. Не было также юридических оснований тратить какие-то усилия на проверку наличия либо отсутствия признаков заведомо ложного доноса в действиях Ш. и казенную бумагу на изготовление этой части постановления. Однако так просто принято на практике: банку необходимо формально зафиксированное подтверждение того, что списание денег произошло помимо воли владельца карты. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о хищении денег, как и ожидалось, было отменено прокурором по жалобе заявительницы, материал действительно был направлен на дополнительную проверку с автоматическим продлением её срока, только результат этой проверки был тем же – оснований для начала расследования в полиции так и не нашли. Тем временем банк сам возместил Ш. украденную с карты сумму, и к собственному заявлению уже сама Ш. также потеряла юридический интерес. Преступление в данном случае не было раскрыто, и похищенные деньги тоже найдены не были. Но некая квази-борьба с преступностью и в описанном случае всё же состоялась: как минимум два правоохранительных ведомства имитировали эту борьбу, обмениваясь ничего не значащими бумажками. Если бы каждое из этих ведомств умудрилось в каком-нибудь отчете приписать заслугу в возмещении ущерба, причиненного гражданину преступлением, именно себе, удивляться бы не пришлось: некая работа проделана, документы составлены, ущерб и впрямь возмещен. Только та ли это «борьба с преступностью», которой ждет «абсолютное большинство населения России», вполне реально страдающее от мошенничества с использованием электронных платежных средств? Очень похожая картина может наблюдаться любым потерпевшим от угона автомобиля, от хищения колес и других запчастей с него, от воровства в дачных массивах, от уличных грабежей и т. д.
Если речь идет не о потерпевших, ситуация имеет иной, не менее удручающий вид.
В нашей книге о реализации уголовной политики описан случай привлечения граждан к проведению оперативного эксперимента по изобличению чиновника, обвиненного в получении взятки, который впоследствии был оправдан судом (Самара, 2010 год) [2]. В этой «антикоррупционной истории» для раскрытия преступления сотрудники полиции сами привлекли двух женщин-педагогов из дошкольных детских учреждений к передаче «предмета взятки» «взяткодателю», сами «рассекретили» участников оперативного эксперимента для возбуждения уголовного дела и для дачи свидетельских показаний по нему, сами успели отчитаться в местной газете об успешной борьбе с коррупцией и о раскрытии именно этого коррупционного преступления. После оправдания подсудимого судом следователь Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело в отношении самих женщин – участниц оперативного эксперимента по признакам провокации взятки (ст. 304 УК РФ) и заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ). Полиция с этого момента сразу же перестала воспринимать обеих женщин как «лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам», она вообще забыла об их существовании и сама исчезла из поля зрения следователей СК РФ. В данном случае не могло возникнуть никаких сомнений в том, что ни «провокация взятки», ни возбуждение уголовного дела не были и не могли быть собственной инициативой двух заведующих детскими садами – женщин-педагогов в солидном возрасте. Признаки «оперативного эксперимента» с характерными для этой процедуры предварительными беседа- ми в полиции, мечеными купюрами, организованными аудио- и видеозаписями и «масками-шоу» при задержании были очевидными и при желании легко устанавливались процессуальным путём. Однако уголовное дело, повторимся, было возбуждено в отношении гражданских лиц, которым понадобилось два года жизни, обращение к Уполномоченному по правам человека, а после этого – вмешательство высшего руководства органов внутренних дел и Следственного комитета, чтобы доказать, что сами эти гражданские лица никаких преступлений не совершали. Сотрудники правоохранительных органов в связи со случившимся ни к каким видам ответственности не привлекались, да и расследование в отношении них не проводилось. Вот и гадай, в отношении кого в данном случае государство проявило «нулевую терпимость», с кем или с чем оно в данном случае «боролось». Только одно можно сказать без всяких гаданий: не только сами невезучие участники оперативного эксперимента, но и все их родственники и знакомые впредь, скорее всего, сделают всё, чтобы избежать любого личного контакта с правоохранительными органами, а особенно тех контактов, что направлены на борьбу с преступностью. И на доверие этих людей правоохранительная система теперь едва ли может рассчитывать.
Проведем ещё один пример «борьбы с коррупцией». В государственное судебно-медицинское экспертное учреждение по собственной инициативе обратился гражданин с просьбой провести экспертизу по следам биологического материала, обнаруженного им на постельном белье жены, заподозренной в супружеской неверности (Самара, 2009 год). Руководитель одного из экспертных подразделений разъяснила обратившемуся, сколько эта несложная экспертиза стоит, и каков порядок её оплаты (деньги должны быть внесены в кассу учреждения, находящуюся по такому-то адресу). Обратившийся гражданин сказал, что ему проще отдать деньги на руки экспертам, чем ходить в какую-то кассу, положил некий почтовый конверт на стул в кабинете и быстро вышел в коридор. Эксперт попросила лаборантку догнать этого человека в коридоре, вернуть оставленный им конверт и еще раз разъяснить, где находится касса. Эта в общем-то довольно будничная сцена имела весьма небудничное продолжение: навстречу лаборантке по коридору вместе с оставившим конверт мужчиной шли несколько вооруженных сотрудников милиции с целью задержать взяткополучателя с поличным. И задержали, и доставили в отделение милиции, и возбудили уголовное дело о получении взятки руководителем экспертного подразделения. В процессе расследования выяснилось, что к меченым купюрам, которые находились в конверте, никто не прикасался – ни лаборант, державшая нераскрытый конверт в руках, ни, тем более, сам эксперт, а показания, которые дают оба сотрудника экспертного учреждения, вполне правдоподобны и полностью совпадают между собой. Через несколько часов после задержания руководитель экспертного подразделения – заслуженный опытный судебно-медицинский эксперт предпенсионного возраста – была освобождена, а через несколько дней уголовное дело в отношении неё было прекращено за отсутствием состава преступления. «Топорный» оперативный эксперимент был типичной провокацией взятки, и он тоже был организован как образчик чьей-то «борьбы с преступностью». Нетрудно понять, что пережила за эти несколько дней женщина, имеющая детей и внуков и всю жизнь отдавшая добросовестной службе во имя правосудия и здоровья людей, а потому привыкшая к заслуженному уважению на работе и дома. Только в пылу борьбы, как обычно, некогда думать о людях, которые в этой борьбе поневоле участвуют в том или ином качестве.
Описанные здесь случаи, к сожалению, вовсе не исключение из общего правила, а скорее обыденность. В практике едва ли не каждого адвоката найдется подобный пример, и, как правило, не один. Если всё это суммировать, то «абсолютное большинство населения России» всё-таки больше нуждается в том, чтобы государство защищало их права и законные интересы, чем в том, чтобы оно просто рассказывало по телевизору, как оно успешно борется с преступностью. Нельзя не отметить, что и других примеров, а именно случаев реальной помощи людям, пострадавшим от преступлений или ставшим жертвами доносов, в правоприменительной практике тоже найдется очень много. Но во всех этих случаях государство защищало права, свободы и законные интересы людей, а не просто боролось с кем-то или с чем-то.
Завершая сказанное, заметим, что положение статьи 2 Конституции России («Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства») – это вовсе не дань западной моде на всё либеральное, не способ противопоставить интересы отдельного человека интересам всего общества. Это конституционное положение должно определять содержание всей государственной деятельности, в том числе и любых его антикриминальных действий.
Это конституционное положение, помимо прочего, не позволяет кому-то имитировать «борьбу с преступностью», поскольку оно требует отчета перед конкретными людьми, а в их лице – перед обществом в целом, которое вне конкретных людей просто не существует. Правозащита – это всегда реальная работа, это решение конкретных жизненных проблем, а «борьба с преступностью» – это довольно часто «медные трубы» и красивые рапорты. Так чего же ждет от правоохранительной системы абсолютное большинство населения России? С похожего вопроса В.А. Азарова и А.В. Боярской была начата наша статья, им она и завершается, поскольку мы в полной мере отдаём себе отчет, что завершить этот разговор невозможно. В 2017 году в издательстве «Юстиция» выходит второе издание нашей монографии, отрецензированной омскими коллегами. Надеемся на продолжение дискуссии по её поводу.
Список литературы "Правозащита" или "борьба с преступностью"? К дискуссиям о теории и практике реализации уголовной политики
- Азаров В., Боярская А. Рецензия на монографию «Реализация уголовной политики: современные проблемы уголовного и уголовно-процессуального правотворчества, правоприменения и кадрового обеспечения: монография/под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А.А. Тарасова. М.: ЮСТИЦИЯ, 2015. -246 с.»//Уголовное право. 2016. № 5. С. 132-138.
- Реализация уголовной политики: современные проблемы уголовного и уголовно-процессуального правотворчества, правоприменения и кадрового обеспечения: монография/под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А.А. Тарасова. М.: ЮСТИЦИЯ, 2015.