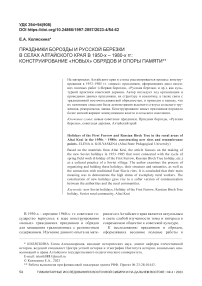Праздники борозды и русской березки в селах Алтайского края в 1950-х - 1980-х гг.: конструирование «новых» обрядов и опоры памяти
Автор: Коляскина Е.А.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Трансформации идентичности и этнокультурной памяти народов Азиатской России в конце XIX-XX вв.
Статья в выпуске: 4 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
На материалах Алтайского края в статье рассматривается процесс конструирования в 1953-1985 гг. «новых» праздников, оформлявших цикл весенних полевых работ («Первая борозда», «Русская березка» и др.), как культурной практики советской деревни. Автор исследует ход организации и проведения данных праздников, их структуру и семантику, а также связь с традиционной восточнославянской обрядностью, и приходит к выводу, что их основным смыслом была демонстрация высокого статуса сельского труженика, рекордсмена, маяка. Конструирование новых праздников породило более мягкий вариант коммуникации власти и сельского населения.
Новые советские праздники, праздник борозды, «русская березка», советская деревня, алтайский край
Короткий адрес: https://sciup.org/170201884
IDR: 170201884 | УДК: 394+94(908) | DOI: 10.24866/1997-2857/2023-4/54-62
Текст научной статьи Праздники борозды и русской березки в селах Алтайского края в 1950-х - 1980-х гг.: конструирование «новых» обрядов и опоры памяти
В 1950-х – середине 1960-х. гг. советское государство вернулось к идее конструирования «новых» гражданских праздников и обрядов для замещения традиционных с религиозным содержанием. Изучение данного опыта на мате- риале сел Алтайского края является актуальным в свете слабой изученности темы и интереса в современном обществе к советской культуре.
К исследованию праздников и обрядов, оформлявших весенние полевые работы в селах Алтайского края во второй половине ХХ в., впервые обратилась советский этнограф В.А. Липинская. Изучив связи традиционных и советских календарных праздников в русских селах региона, исследовательница отметила преемственность и гражданский характер последних [5, с. 128–130, 135–136]. Среди современных исследователей проблемы конструирования новых весенних праздников и их влияния на восточнославянский календарь в 1950-х – 1980-х гг. в селах края затронули в своих работах И.Ю. Аксенова, С.И. Бондаренко, А.В. Богочанова и др. Таким образом, на данный момент в исследованиях освещены лишь отдельные аспекты изучаемой проблемы.
В данной статье на материалах Алтайского края рассматривается процесс конструирования в 1953–1985 гг. «новых» праздников, оформлявших цикл весенних полевых работ (Праздник борозды, русской березки и др.), как культурной практики советской деревни. Исследование основано на корпусе полевых, архивных и опубликованных материалов, важное место среди которых занимают интервью, записанные автором в ходе многолетней работы в селах Алтайского края, преимущественно среди восточнославянского населения.
Возрождение календарных праздников в стране в 1950-е – 1960-е гг. этнографы советского времени связывали с интересом населения к традиционной культуре и работой по «внедрению» новой обрядности [2, с. 224; 5, с. 112]. Дополнительным фактором, способствовавшим распространению в этот период на Алтае новых праздников и обрядов, можно считать приезд большого количества молодежи для освоения целины [1, с. 20]. Попытки массового внедрения новых календарных праздников в регионе начались в середине 1960-х гг., когда на волне набиравшей силу государственной кампании Исполком Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся принял решение № 204 «Об усилении контроля за выполнением законодательства о культах и выполнении Постановления Совета Министров РСФСР от 18 фев. 1964 г. “О введении в быт советских людей новых гражданских обрядов”» (Государственный архив Алтайского края, далее – ГААК. Ф. Р-834. Оп. 6. Д. 374. Л. 23–27). Несмотря на эти меры, судя по официальным отчетам, в этот период в большинстве районов края работа по внедрению в быт новых праздников проводилась лишь эпизодически (ГААК. Ф. Р-834. Оп. 6. Д. 709. Л. 174).
В исследуемый период начало посевной кампании оформлялось праздником «Борозда», «Красная борозда» или «Первая борозда». Этот праздник впервые начал проводиться еще в конце 1920-х гг. Так, в районных селах Барнаульского округа с 1928 г. комсомольские ячейки перед началом посева должны были проводить Праздник первой борозды с целью расширения посевов и вовлечения «беспартийной» молодежи. Частью праздника должны были стать конкурсы среди единоличных хозяйств на большую площадь посева, на лучшие всходы (ГААК. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 250. Л. 3). Такая структура пролонгировала действие праздника, отодвинув его финальную часть на окончание посевной кампании в советских хозяйствах, «приемка посевов» в районах стала традицией в последующие десятилетия (Полевые материалы автора, далее – ПМА. 2001–2023 гг.). Возможно, поэтому праздник «Борозда» или «Красная борозда» чаще отмечали в связи с окончанием посевной, чем с ее началом: « После посевной устраивается общеколхозный праздник » (Поспелихинский р-н, 1961 г.) (Научный архив Института этнографии и антропологии РАН, далее – НА ИЭА РАН. Ф. 47. Оп. 15. Д. 4448. Л. 14); « Из колхозных отмечают День красной брозды после посевной » (Шипуновский р-н, 1961 г.) (НА ИЭА РАН. Ф. 47. Оп. 15. Д. 4450. Л. 21); « Весной был Праздник борозды, когда вот пройдет, это как, посевная » (ПМА. 2022 г., с. Моховское, Алейский р-н).
В начале посевной в исследуемый период ритуализировали два основных эпизода: 1) проводы механизаторов в поле от центральной площади селения и 2) прокладку в поле первой борозды [4, с. 95–96; 5, с. 128]. В первом случае в Тальменском районе производился смотр тракторов, непродолжительный митинг-концерт [4, с. 96]. В начале 1980-х гг. в Шипуновском районе также на центральных усадьбах хозяйств проводили смотры готовности сельскохозяйственной техники и торжественные проводы механизаторов на посевную (Архивный отдел администрации Шипуновского р-на. Ф. 78. Оп. 1. Д. 149. Л. 1; Д. 153. Л. 4). Что касается прокладки первой борозды, то в Михайловском и Славгородском районах она проходила с театрализацией, демонстрировавшей прогресс производительных сил: «Пахоту открывает человек в старинной крестьянской одежде с деревянной сохой. За ним следует другой с конным плугом, в который запряжена пара лошадей. И наконец звучит оркестр, появляется современный мощный трактор, и навесной тракторный плуг прорезает первую борозду» [4, с. 96]. Прокладка первой борозды запечатлена на ряде фотографий, хранящихся в фондах районных музеев. Дополнительную ценность данные снимки приобретали как опоры социальной памяти, если они были сделаны на целинных землях (Рис. 1) или запечатлели работу женской бригады (Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации, далее – ГК МФ РФ. № 38669248). Другие фотографии демонстрируют ряд узловых моментов Праздника первой борозды – приветствие механизаторов в поле пионерами (Рис. 2) или смотр техники (Рис. 3).

Рис. 1. Первая борозда на целине Благовещенского района, 1954 г. (ГК МФ РФ. № 16915108)
В большинстве районов полномасштабное развитие получили праздники окончания сева – борозды и русской березки, символизировавшие смену природного и хозяйственного сезона. В Шипуновском районе существует выражение, означающее конец посевной, – «клин забили»: «Клин забили… Ну, клин как бы все засевается, и вот последняя борозда – клин» (ПМА. 2023 г., с. Шипуново, Шипуновский р-н). Основной смысл этих праздников был в чествовании «передовиков-хлеборобов», «маяков», рекордсменов производства. Их поздравляли, награждали денежными премиями и почетными грамотами. Последние стали традиционной частью семейных архивов сельских жителей (ПМА). В некоторых селах данный смысл праздника отразили в названии «Праздник хлебороба» [12], «День полевода-механизатора» [11] или «Праздник механизаторов» [9, с. 49–52]. По мнению С.И. Бондаренко, праздник «Красная борозда» имел большое значение для целинников, поскольку был приурочен к полевым работам, а его неотъемлемой частью было чествование героев целины [1, с. 19].

Рис. 2. Первая борозда, Алейский р-н, 1957 г. (ПМА. 2022 г.)

Рис. 3. Автомобили на Празднике первой борозды в ауле Бигельды, Бурлинский р-н, 1955 г. (ГК МФ РФ. № 13383231)
Фотодокументированию подвергались отдельные элементы праздника, считавшиеся узловыми: например, вручение переходящего Красного знамени (ГК МФ РФ. № 31313221). Значение момента могло усиливать наложение событий, присутствие важных гостей (Рис. 4). Реже встречаются фоторепортажи Праздника борозды, отражающие его основные элементы. Две серии фотографий праздника 1956 г. и 1958 г. сохранились в Каменском краеведческом музее. Они появились благодаря фотографу Г. Федюнькину, фиксировавшему на фотопленку многие события в районе. Из достаточно редких кадров стоит отметить гуляющих людей на фоне торговых палаток (Рис. 5).

Рис. 4. Приветствие группы писателей в Дни советской литературы на Празднике борозды в г. Камень-на-Оби. (ГК МФ РФ. № 1065242)
Праздник «Русская березка», по всей видимости, отмечался реже, чем Праздник борозды, так как его описания в региональных изданиях – брошюрах и районных газетах – встречаются реже, а число сохранившихся фотографий, где он запечатлен, незначительно (Рис. 6).

Рис. 5. Праздник борозды по случаю окончания сева в Каменском р-не, 1958 г. (ГК МФ РФ. № 14052895)
В имевшей широкое общесоюзное хождение методичке было указано, что праздник «Русская березка» – новый праздник патриотического и лирического характера, который прошел в июне 1964 г. почти по всей стране, приобретая массовый характер [7, с. 97]. В региональных публикациях середины 1960-х гг. присутствовала тема возникновения праздника «Русская березка» в противовес Троице [13, с. 13]. В конце 1970-х гг. его происхождение связывалось с обезличенными древними русскими праздниками и ритуалами [4, с. 61–64]. Апелляция к народной традиции – это идеологический прием для обоснования изобретения новых традиций институтами власти с целью внедрения определенных ценностей и норм поведения [16, с. 48]. В начале 1980-х гг. антирелигиозной пропагандой и методистами общества «Знание» было подготовлено пособие в помощь лекторам и пропагандистам Алтайского края, организовывавшим праздник «Русская березка» в противовес Троице. В брошюре содержался примерный рассказ для ведущего и объяснение семантики противопоставляемых праздников (ГААК. Ф. Р-461. Оп. 4. Д. 1094. Л. 3–8).

Рис. 6. Праздник «Русская березка» в с. Сычевка, Смоленский р-н, 1980 г. (ГК МФ РФ. № 29146566)
Вряд ли можно говорить о планомерном замещении Троицы праздником «Русская березка» на протяжении всего исследуемого периода. Однако существуют документы, свидетельствующие о стремлении к этому представителей местной власти. В фонде второго секретаря Крайкома партии Т.В. Мищенко сохранился список праздников православного календаря за 1977 г., в котором было помечено: «29 мая день святой Троицы… Рекомендуется проведение безрелигиозного праздника “День березки”» (ГААК. Ф. Р-1960. Оп. 1. Д. 48. Л. 4). Праздник «Русская березка» всегда устраивался в воскресенье и периодически совпадал с Троицей. Информанты, организовывавшие праздники в конце 1970-х – 1980-е гг., утверждают, что не «подгоняли» даты специально, т.к. это было сложно сделать из-за привязки к периоду весенних полевых работ (ПМА. 2023 г., с. Шипуново, Шипуновский р-н). Предпринималась попытка приурочить новые праздники к определенным датам. В Быстро-Истокском районе в 1966 г. ис- полком решил установить фиксированные даты проведения новых обрядов и праздников: так, праздник «Русская березка» должен был отмечаться в первое воскресенье июня (ГААК. Ф. Р-1041. Оп. 1. Д. 550. Л. 31). Наложение новых праздников на даты праздников традиционных могло способствовать вхождению в народный календарь первых и постепенному вытеснению последних.
К 1966 г., согласно официальной отчетности, в Алтайском крае праздник «Русская березка» значился среди самых распространенных. Он отмечался в Смоленском, Залесовском, Ха-барском, Красногорском, Бийском, Ребрихин-ском, Баевском и Топчихинском районах края (ГААК. Ф. Р-1041. Оп. 1. Д. 550. Л. 2–103). Достойную конкуренцию ему составлял только Праздник борозды. На его распространение, видимо, влиял и этнический состав сел районов. Так, самым массовым праздник «Первая борозда» был в Кулундинском районе (23 мероприятия за 1966 г.), а в Горно-Алтайской автономном округе было проведено 3 Дня березки и 19 Дней весенней борозды (ГААК. Ф. Р-1041. Оп. 1. Д. 550. Л. 103, 122).
Праздники борозды и русской березки имели элементы троицко-семикской обрядности. Их празднование часто проходило на открытом воздухе рядом с центральной усадьбой села, в роще, саду, на острове, в парке (если он имелся в селе): «Недалеко от села есть живописный остров, на который приходят сростинцы во время праздничных торжеств и гуляний. Его решено сделать и местом проведения нового, совсем еще молодого праздника1» [13, с. 13]; «В роще… Вот прям у нас за огородом, вы знаете, как хорошо… Был вот праздники всегда… Посеяли, засеяли все, и отмечался в селе праздник “Борозда”» (ПМА, 2022, Алейский р-н, с. Моховское); «Праздновали в околках где-то, мож и в селе где-то, но очень часто проводилось в околках» (ПМА. 2023 г., с. Шипуново, Шипуновский р-н). В качестве праздничных украшений использовались березовые ветви и цветы: «Свежими березовыми ветками и цветами украшают машину, на которой “Березка” поедет приглашать на праздник передовиков производства… В центре поляны стоит березка, украшенная лентами и венками» [13, с. 14]; «Русская березка со своей свитой едет по селу на украшенной машине. Поздравляет победителей сева, дарит яркие букеты жарков, венчает лучших пахарей венками из цветов и лентами почета» [14, с. 21]. Активными участниками праздников, особенно Праздника русской березки, была молодежь, прежде всего девушки. Использовались антропоморфные персонажи Березки и девочки-«веснянки» [13, с. 14].
Праздник имел этническую маркированность как русский, что презентовалось в официальном дискурсе (публикации в газетах, тексты сценариев и т.п.) через вербальные формулы «Праздник русской березки», «русская Березка» (главный персонаж) и «русские песни». В ряде сел Михайловского района (Михайловка, Содокомбинат, Николаевка, Ащегуль, Полуямки, Бастан) проводили Праздник сибирской березки (ГААК. Ф. Р-1041. Оп. 1. Д. 550. Л. 74). В данном случае акцент на локальной идентичности мог быть связан с этнически неоднородным составом населения сел.
Торжественная часть праздников «Борозда» и «Русская березка» была достаточно короткой, обычно она состояла из лаконичного поздравления руководителя колхоза/совхоза с успешным завершением посевной и награждения передовиков производства: «В прошлом году пытались сделать собрание, чтобы подвести итоги, но ничего не получилось (людей не собрать в одно место). Один раз подвели туда радио и всех поздравили (очень коротко) с завершением сева» (с. Калмыцкие Мысы, Поспелихин-ской р-н, 1961 г.) (НА ИЭА РАН. Ф. 47. Оп. 15. Д. 4450. Л. 52). По мнению О.Р. Будиной, эта особенность была характерна для новых календарных праздников, поскольку их «идейно-воспитательное начало» реализовывалось в ходе развлекательной части [2, с. 226–227]. К их стабильным элементам, кроме концерта самодеятельности, можно отнести выездную торговлю: «В рощу приезжают 6–7 торговых точек – продают газированную воду (здесь это редкость), конфеты, промтовары и т.д.» (с. Калмыцкие Мысы, Поспелихинской р-н, 1961 г.) (НА ИЭА РАН. Ф. 47. Оп. 15. Д. 4450. Л. 52); «В магазинах же ни че же не было, все там вот продавали, и лимонад. Помню, приедут вот эти вот автолавки, вот эти вот все, и в бутылках то лимонад, мы прям счастливы были. Конфеты та все вот это вот. Все село – там концерт какой-то, вот самодеятельность художественная – вся деревня собиралась» (ПМА. 2022 г., с. Моховское, Алейский р-н); «Привозили бочки пива, работники культуры организовывали какие-то представления, концерты там че-то, люди, да» (ПМА. 2023 г., с. Шипуново, Шипу-новский р-н).
Наличие выездной торговли сближало новые праздники с ярморочными гуляниями. В условиях дефицита товаров легкой промышленности и неразвитости общепита это было залогом массовости праздника и праздничной атмосферы. Черты ярмарки придавали и устраиваемые развлечения: аттракционы, игры, викторины, вещевая лотерея и т.п. В одном из описаний празднования «Русской березки» 1964 г. в с. Сростки говорится об установлении ярмо-рочного столба, который стал традиционным развлечением Проводов зимы: «Группа ребят окружает одиннадцатиметровый столб. Тот, кто заберется на него, получит приз» [13, с. 16]. Видимо, в начале внедрения праздников элементы развлекательной части еще не были четко разграничены между ними. В некоторых селах Шипуновского района на Праздник борозды устраивали лошадиные бега [11] или соревнования по мотогонкам [10].
В праздниках, оформлявших окончание сева, обязательной частью было общее застолье: «Вот отмечали День борозды… Покупали мужчины пиво… Водки тогда как-то не было, под кустиком одни сядут, под тем кустиком – другие, там кто домой» (ПМА. 2022 г., с. Мо-ховское, Алейский р-н); « Клин забивают в хозяйстве, последнюю борозду сделали, технику поставили, помыли и поляна» (ПМА. 2023 г., с. Шипуново Шипуновский р-н). В рассказе о праздновании в 1950-е гг. в качестве центрального угощения упоминается колхозная медовуха: « Вот весной пройдет эта, посевная, Борозду отмечали, там весь этот поселок2 собирается, гулянка. Эту медовуху тогда возят, оттель и гулянка. И там пьют и, кто желает, и домой наливали, в лагунах 2–3 она с полгода стояла… Как кончится посевная, все приготовления делаются… Вся деревня, вся-вся деревня гуляли. Вся деревня у клуба, там такая лужайка, полянка, и на ей отмечали. Отмечали очень весело, ну тогда гармони были » (ПМА. 2001 г., с. Мишиха, Кытмановский р-н).
Если новые праздники по дате совпадали с традиционными, то могли дополняться практиками празднования Троицы. Ритуальное значение здесь имели повседневные практики, связанные с питанием и досугом, особенно молодежи. Если даты не совпадали, то домашне-бытовая часть праздников ограничивалась общественными гуляниями и домашним застольем: «День борозды обычно на Троицу. В субботу с обеда съезжаются все домой, едут в забоку, рубят разные ветки и украшают ими ограду. Травой чобер посыпают пол, в посуду ставят ветки черемухи» (НА ИЭА РАН. Ф. 47. Оп. 15. Д. 4450. Л. 55).
К началу или окончанию посевной, выпуску из школы или профессионального училища приурочивали также обряд посвящения в механизаторы / хлеборобы / земледельцы. В 1966 г. Исполком Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся распорядился провести перед севом торжественные обряды «посвящения в земледельцы молодых людей, вступающих в трудовую жизнь» (ГААК. Ф. Р-1041. Оп. 1. Д. 568. Л. 43). Это было сделано в ряде районов края, включая Калманский, Баевский и Топ-чихинский (ГААК. Ф. Р-1041. Оп. 1. Д. 550. Л. 78, 82, 85). В обряд посвящения входила клятва и прикосновение к «колхозной» земле [15, с. 45–48] или шкатулке с землей. Эта деталь дает нам возможность поспорить с мнением В.А. Липинской, которая полагает, что из данных праздников исчезли древние ритуально-магические действия, связанные с аграрным плодородием [5, с. 128]. Данный обряд, видимо, стал популярным, поскольку его совершали и в Первомайском районе [6, с. 28], и выпускники сельскохозяйственного техникума с. Некрасова Славгородского района, что зафиксировано в альбоме «Новые праздники и обряды» (1974 г.). Здесь же на фото мы видим и украшение сцены снопами колосьев прошлого урожая (ГК МФ РФ. № 39683881). В целом данный обряд символизировал высокий профессиональный статус земледельцев. В совхозе «Целинный» Михайловского района делали записи в «Памятной книге молодого земледельца» (ГААК. Ф. Р-1041. Оп. 1. Д. 529. Л. 266), а в клубе совхоза «Энгельсский» хранился специальный альбом с клятвой хлеборобов, в который вносили даты посвящения, а также фотографии с фамилиями и подписями посвященных [17, с. 4]. Данный альбом можно расценивать как опору коллективной памяти колхозников о приобретенном статусе хлеборобов. В другом варианте посвящения механизаторам после клятвы вручали именные трудовые путевки с портретами [11, с. 18], которые, сохраняясь в личных архивах, становились опорой индивидуальной памяти.
Ритуалы посвящения были пропитаны идеей преемственности трудовых поколений, в них обязательно участвовали «старые» колхозники, «наставники», ветераны труда и т.п. Признание трудовых достижений старшего поколения со стороны юных членов общества выражалось в частом присутствии пионеров на праздниках борозды и русской березки.
Актором конструирования новых праздников выступало советское государство как обладатель монополии на идеологию. На уровне сельского общества они санкционировались местными органами власти. Акторами внедрения праздников были местные общественные организации, учреждения культуры, руководители хозяйств. После постановления Совета Министров РСФСР от 18 февраля 1964 г. и краевых распоряжений при каждом райисполкоме должны были создать комиссию (совет) «по контролю за соблюдением законодательства о культах и внедрению гражданской обрядности» (ГААК. Ф. Р-834. Оп. 6. Д. 374. Л. 26) из депутатов, представителей различных учреждений и общественных организаций села для разработки и обсуждения сценариев. На практике это делали работники культуры, а представитель местного партийного органа, отвечавший за идеологию, их утверждал (ПМА. 2023 г.). Новый импульс внедрению Праздника первой борозды в 1966 г. придало решение Исполкома Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся № 279 «Об улучшении работы по внедрению в быт новых праздников и обрядов». В нем были даны конкретные предписания: «Торжественно отмечать праздники первой борозды, урожая, песен, цветов, русской березки, весны и т.д. Добиваться их массовости, эмоциональности, глубокого содержания и большого воспитательного воздействия на подрастающее поколение… Центром массового внедрения новой обрядности и ритуалов сделать Дома культуры, клубы и другие культурно-просветительные учреждения. Привлечь к проведению новых ритуалов и праздников коллективы художественной самодеятельности» (ГААК. Ф. Р-834. Оп. 6. Д. 709. Л. 176). Проведение новых праздников становилось демонстрацией престижа районов или хозяйств, которые содержали учреждения культуры, что закреплялось в публикациях региональных изданий и фоторепортажах.
Мотивы конструирования новых праздников не ограничивались антирелигиозной кампанией. На фоне повышения уровня образования сельчан, их мобильности, притока «городских» специалистов сформировался запрос молодежи на профессионально организованную культурную жизнь в селе, «как в городе». Наиболее активными субъектами были комсомольцы, они инициировали и готовили проведение первых праздников, что стало одним из направлений комсомольской работы. Молодежь получала возможность использовать свою этнокультурную память о практиках празднования. Это сохраняло мотив молодежных гуляний, как и различные состязания на ловкость и спортивные соревнования – обязательный элемент новых праздников. Соревнования «физкультурников» хозяйств часто становились элементом празднования, при этом особенную заинтересованность у сельских жителей вызывали состязания по волейболу и футболу.
Одним из каналов распространения сценариев новых праздников были центральные и краевые методические издания, с которыми знакомили на районных семинарах работников культуры (ГААК. Ф. Р-1041. Оп 1. Д. 412). Местные издания не предлагали разнообразных сценариев. Так, в методических пособиях, выпущенных в Алтайском крае, дважды встречается практически идентичное развернутое описание проведения праздника «Русская березка» в с. Сростки Бийского района [4, с. 110– 114; 13, с. 13–19] и несколько кратких примеров из других районов [3; 14, с. 21]. Передовые отделы и дома культуры транслировали свой опыт организации и проведения новых праздников через оформление тематических альбомов, создание диафильмов и кинофильмов. Так, в Михайловском и Локтевском районных домах культуры были сняты кинофильмы, запечатлевшие опыт внедрения новых обрядов, которые демонстрировались на краевых семинарах просвещения работников культуры края (ГААК. Ф. Р-1041. Оп. 1. Д. 550. Л. 1). Тематические альбомы о новых праздниках или обрядах могли использоваться в качестве методических пособий. Их оформление можно также расценивать как способ репрезентации культурных достижений района и создания опор памяти, вписывания данного события в контекст локальной истории.
В организации рассматриваемых праздников прослеживается определенная дуальность. С одной стороны, инициатива их создания шла сверху, сельчанам отводилась роль гостей: это подчеркивал акт приглашения на праздник через афиши, листовки, билеты, объявления в газете и по радио. С другой стороны, орга- низаторы старались вовлекать сельчан в подготовку праздников. Концерт художественной самодеятельности был стабильным элементом новых праздников, включал в себя сатирические куплеты, часто дополнялся конкурсами частушек, песен, художественного слова и т.п. На некоторых мероприятиях критике уделялось отдельное внимание: «Немало людей привлекает аллея карикатур “С березовым веничком!”. Здорово здесь досталось тем, кто нам мешает нормально жить и работать» [13, с. 16]. Персонажи праздника «Русская березка» Дед Жара и Дождинка «пропекали» и «промачивали» «нерадивых бракоделов и пьяниц» [14, с. 21]. Таким образом, появлялась возможность и пространство для проявления творческой инициативы (до определенной степени) и голоса «снизу». Советский праздник как явление культурной практики – пример пересечения многочисленных линий коммуникации между обладавшими всей полнотой власти и обделенными ею [8, с. 10].
В заключение отметим, что основным смыслом сконструированных праздников была демонстрация высокого статуса сельского труженика, рекордсмена, маяка. Коммеморативные практики, осуществляемые во время праздников и обрядов, а также «овеществленные» носители памяти, сохранившиеся в личных и публичных архивах, библиотеках и т.п., выполняли функции опор индивидуальной и коллективной памяти. Конструирование новых праздников породило более мягкий вариант коммуникации власти, которая транслировала «сверху» определенные идеологические смыслы, с сельским обществом. В свою очередь сельчане получили площадку для осуществления коммуникации «снизу» – через участие в мероприятиях.
Список литературы Праздники борозды и русской березки в селах Алтайского края в 1950-х - 1980-х гг.: конструирование «новых» обрядов и опоры памяти
- Бондаренко С.И. Исторические аспекты освоения целинных и залежных земель: значение, опыт, перспективы (к 60-летию целинной эпопеи) // Аграрная наука – сельскому хозяйству: сборник статей IX международной научно-практической конференции (5–6 февраля 2014 г.). Кн. 1. Барнаул: РИО АГАУ, 2014. С. 18–22.
- Будина О.Р., Шмелева М.Н. Город и народные традиции русских: по материалам Центрального района РСФСР. М.: Наука, 1989.
- Кривоносов Я.Е. О характере новых советских праздников // Приглашаем на праздник. Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1974. С. 8–14.
- Кривоносов Я.Е., Фатеева Н.И. Дни торжеств. Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1979.
- Липинская В.А. Народные традиции в современных календарных обрядах и праздниках русского населения Алтайского края // Русские: семейный и общественный быт. М.: Наука, 1989. С. 111–141.
- Мартынова П. Только новые, советские // Приглашаем на праздник. Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1974. С. 25–31.
- Нагирняк Е.В., Петрова В.Я., Раузен М.В. Новые обряды и праздники. М.: Советская Россия, 1965.
- Рольф М. Советские массовые праздники. М.: РОССПЭН, 2009.
- Рымаренко З. Хвала рукам, что пахнут хлебом // Новые праздники и обряды. Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1965. С. 49–52.
- Степная новь. 1964. № 68.
- Степная новь. 1964. № 70.
- Степная новь. 1964. № 71.
- Фатеева Н.И. «Русская березка» в гостях у тружеников совхоза // Новые праздники и обряды. Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1965. С. 13–19.
- Фатеева Н.И. Торжественно, красиво, памятно // Приглашаем на праздник. Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1974. С. 15–21.
- Храмцов В. Они посвящены в земледельцы // Новые праздники и обряды. Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1965. С. 45–48.
- Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. 2000. № 1. С. 47–62.
- Шабалков А. Новым праздникам партийное внимание // Приглашаем на праздник. Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1974. С. 3–7.