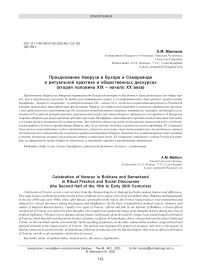Празднование Навруза в Бухаре и Самарканде в ритуальной практике и общественных дискурсах (вторая половина XIX - начало XX века)
Автор: Маликов А.М.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 2 т.48, 2020 года.
Бесплатный доступ
Празднование Навруза на обширной територии от Османской империи до Восточного Туркестана имело как общие черты, так и определенные различия. В статье рассматривается вопрос о его вариативности в двух крупных городах долины Зерафшана - Бухаре и Самарканде - во второй половине XIX- начале XX в., когда после присоединения региона к Российской империи происходила трансформация празднования Навруза, его ритуальной практики и возникали критические дискурсы о нем среди теологов и просветителей. На основании неопубликованных архивных материалов, мемуаров, публикаций исследователей Российской империи проведен сравнительный анализ двух типов Навруза: официального и народного. В Бухарском эмирате официальную форму праздник приобрел при эмире Музаффаре, стремившемся укрепить имидж династии мангытов в условиях кризиса политической легитимности. Это породило дискуссии среди мусульманских интеллектуалов о необходимости широкого и долгого празднования Навруза, что, по их мнению, выходило за рамки исламской традиции. В Самарканде более тесное взаимодействие оседлого таджикского, узбекского населения с полукочевым тюркским способствовало синтезу земледельческих и скотоводческих элементов в ритуальной практике Навруза. Праздник был легитимизирован через молитвы в мечети, посещение мазаров мусульманских святых и священных речек. В Самарканде, вошедшем в состав Российской империи, на официальном уровне Навруз не отмечался, а масштабы народного празднования сократились.
Ислам, долина зерафшана, ритуальная практика, дискурсы, легитимация
Короткий адрес: https://sciup.org/145145991
IDR: 145145991 | УДК: 394.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.122-129
Текст научной статьи Празднование Навруза в Бухаре и Самарканде в ритуальной практике и общественных дискурсах (вторая половина XIX - начало XX века)
Празднование Навруза является древней традицией многих народов Центральной Азии и Ближнего Востока. В древности с этим праздником связывали мифы об умирающей и воскресающей природе, которые усложнялись другими культурными компонентами в зависимости от региона и эпохи. Его сложная сущность проявлялась в совмещении различных поверий и ритуальной практики.
Целью нашего исследования является изучение празднования Навруза в Бухаре и Самарканде – крупных городах центральной для Среднеазиатского междуречья долины Зерафшана – во второй половине XIX – начале XX в. Выбор периода не случаен. Это позволяет проследить трансформацию празднования Навруза, его ритуальной практики и существовавших дискурсов о нем среди теологов, просветителей после присоединения региона к Российской империи. Феномен Навруза интересен тем, что, несмотря на господство ислама, он сохранял определенные неисламские черты на протяжении многих столетий. На уровне политической власти организация официального празднования Навруза преследовала цель пропаганды положительного образа царствующей династии.
В прошлом существовали две традиции празднования Навруза: согласно одной, его отмечали в середине лета, а по другой он был приурочен ко дню весеннего равноденствия. Официальный, государственный Навруз не всегда совпадал с народным. Легенды связывали введение праздника с именами мифических иранских царей – Каюмарса или Джамшида [Брагинский, 1977, с. 116]. На официальном уровне Навруз отмечался в Сасанидской империи, а также в столице Согда Самарканде в VII–VIII вв. [Grenet, 2006].
Празднование Навруза на официальном уровне в Бухаре описали в своих произведениях известный просветитель XIX в. Ахмад Дониш (1827–1897) [Трактат…, 1967, с. 90–92] и выдающийся таджикский писатель С. Айни (1878–1954) [1960, c. 831–832]. Свои впечатления об этом празднике опубликовал британский подданый Дж. Локе [Locke, 1906].
Первые научные работы о праздновании Навру-за в долине Зерафшана были изданы в конце XIX – начале XX в. В публикациях исследователей эпохи Российской империи превалировало убеждение, что Навруз является неисламским праздником с элементами верований арийских народов. Из авторов, описывавших обычаи жителей Самарканда, можно выделить чиновников и ученых, хорошо знавших регион (Г. Арендаренко, А. Гребенкин, А. Хорошхин, Н. Веселовский, В. Вяткин).
О Наврузе и весенних праздниках писали советские востоковеды и этнографы [Снесарев, 1969, с. 205–215; Брагинский 1977; Устаев, 1985; Сухарева, 1986; Лобачева, 1986 и др.]. Проанализировав значение различных общественных, религиозных и семейно-обрядовых празднеств в культурной жизни народа, они внесли значительный вклад в изучение праздничных обрядов. Ценные сведения об организации официального празднования Навруза в эпоху эмиров Музаффара и Абдулахада содержатся в материалах этнографической экспедиции 1940 г. в Бухару под руководством М.С. Андреева, в работе которой участвовали сотрудники Среднеазиатского государственного университета и музеев М.С. Юсупов, Н.В. Русинова, О.Д. Чехович и Л.И. Ремпель [Андреев, Чехович, 1972, с. 9–10]. Некоторые записи были опубликованы, а остальные хранятся в личном фонде О. Чехович в Центральном государственном архиве Республики Узбекистан и других архивах Узбекистана и Таджикистана. Следует подчернуть, что сведения собирались от разных информаторов и они отличаются описанием деталей празднования. В настоящем исследовании большей частью использованы материалы О. Чехович.
В советский период Навруз изучался как часть народных обрядов неисламского характера, а влияние ислама на его ритуальную практику игнорировалось. Одни исследователи считали праздник нерелигиозным, мирским [Брагинский, 1977, с. 118], а другие признавали его исламизированность [Ремпель, 1981, c. 63]. В постсоветский период Навруз рассматривался не только как древний иранский праздник весеннего равноденствия, но и как проявление специфики центрально-азиатского ислама [Рахимов, 2012, с. 151]. Наиболее известные публикации вместе с новыми статьями по истории Навруза были переизданы в сборнике «Магия Навруза» [2007].
На наш взгляд, Навруз является комплексом, сочетающим в себе представления разнородного в культурных традициях мусульманского населения Центральной Азии. До сих пор не было проведено специальных исследований его официального празднования в среднеазиатских ханствах, отличий от народного, а также существовавших дискуссий по этому поводу.
В Бухарском эмирате к XIX в. календарный праздник Навруз сформировался как многомерное празднество, отражавшее комплекс различных верований не только оседлого земедельческого, но и кочевого скотоводческого населения. Немаловажно, что в определенные периоды истории он использовался как средство пропаганды позитивного образа царствующей династии.
Понимание особенно стей празднования Навруза, который не являлся исламским праздником, возможно через изучение ритуалов, их трансформации в исламской традиции и в контексте политической, социальной ситуации в Бухарском эмирате. Существуют различные определения ритуала. Согласно В. Тэрне-ру, «это стереотипная последовательность действий, которые охватывают жесты, слова и объекты, исполняются на специально подготовленном месте и предназначаются для воздействия на сверхъестественные силы...» [1983, с. 32]. Он выделяет сезонные ритуалы, посвященные моменту перемен климатического цикла или началу посева, жатвы; гадания; «церемонии, исполняемые политическими властями для обеспечения здоровья, плодородия людей и злаков на их территории»; ритуалы, сопровождающие приношения духам предков, и др. [Там же]. Ритуалы включали интегративный механизм для объединения социальных групп. Объединяющий эффект праздников зависел от взаимоотношений между группами, эти взаимоотношения могли меняться во время празднеств. Если ритуалы повторяются на протяжении многих лет, то они являются частью традиции [Etzioni, 2004, p. 7, 16]. Традиция концептуализируется как вариации протяженных во времени дискурсов, а не как набор неизменных доктрин или повторение прежних верований и практик [Haj, 2009, p. 4, 6].
Празднества и общепринятые ритуалы, связанные с Наврузом
В Средней Азии Навруз традиционно был праздником весны, нового года, начала земледельческих работ. О его праздновании в древний период сохранилось мало сведений. Можно отметить, что до проникновения ислама в регион идеологическое содержание Навруза было связано с местными вариантами зороастризма. В условиях политеизма получили распространение различные культы, поклонение огню, молитвы в храмах. Совершались жертвоприношения, проводились спортивные состязания, в городах организовывались ярмарки [Ан-Наршахи, 2011, с. 222, 226]. С распространением ислама идеологическая ситуация изменилась. Некоторые видные мусульманские теологи выступали с осуждением пышных празднований Навруза. По мнению Абу Хамида Мухаммада ал-Газали (1058-1111), «...Новый год и сада * должны исчезнуть и никто не должен произносить их названия...» [2018, с. 296]. Тем не менее празднование Навруза сохранилось и даже проникло в среду полукочевой части тюркского населения Центральной Азии, где в результате многовековой дискуссии теологов о допустимости его празднования мусульманами был узаконен и отмечался наряду с двумя исламскими праздниками - Ураза-байрамом ( Ид аль-фитр - праздник окончания мусульманского поста) и Курбан-байрамом ( Ид аль-адха - праздник жертвоприношения)
[Веселовский, 1888, с. 141]. С принятием ислама На-вруз обрел некоторые мусульманские черты [Лобачева, 1995, с. 25].
В Средние века существовали различные традиции празднования Навруза. Однако в обрядовой практике населения Центральной Азии и Ирана при проведении этого весеннего праздника обнаруживается много общих элементов: приготовление ритуальных кушаний гуджи, сумаляка , имевших целью обеспечить богатый урожай текущего года и благополучие участниц обряда [Снесарев, 1969, с. 211, 215]; обрызгивание друг друга водой [Брагинский, 1977, с.118], крашение куриных яиц, ритуал поминовения предков , что отмечено и у уйгуров Восточного Туркестана [До-ржиева, 2016, с. 62–79].
Навруз входил в цикл весенних праздников, длившихся на протяжении месяца, являясь их кульминацией [Сухарева, 1986, с. 34]. Одним из них был праздник красного цветка (тюльпан или мак, сайли гули сурх, кизил гул сайли ), отмечавшийся во многих областях Среднеазиатского междуречья [Там же, с. 34–38] и уйгурами Восточного Туркестана. Сайли (народные гуляния) проводились в апреле – начале мая, когда распускались маки и тюльпаны. Накануне и в период празднования Навруза отмечались праздники других цветов, например подснежника ( бойчечак ).
В общих чертах ритуальная практика Навруза аналогична на обширной территории центральной и восточной части мусульманского мира. Вместе с тем в оазисах Средней Азии, в частности в городах долины Зерафшана, его празднование имело свои особенности.
Официальное празднование Навруза в Бухаре и дискурсы интеллектуалов
Исследователи отмечали, что монархи и духовенство пытались внести в Навруз новые религиозные и монархические элементы [Брагинский, 1977, c. 120]. В Бухаре в эпоху эмира Насруллы (1827–1860) государь имел право на продление празднования Навру-за. По данным П.И. Демезона, праздник, как правило, продолжался шесть дней. Однажды эмир продлил народные празднества до 15 дней и больше обычного старался принимать участие в веселье своих подданных [Записки…, 1983, с. 70].
Во второй половине XIX – начале XX в. в Бухаре Навруз имел не только народный, но и официальный характер. Бухарский мыслитель и писатель С. Айни отмечал, что народные гуляния начинались задолго до этого весеннего праздника и, в отличие от организованных эмирской властью, проходили каждую пятницу с 22 февраля по 22 марта у святилища в Файзабаде, к северо-востоку от Бухары. Они сопро- вождались различными состязаниями (бег, борьба) между жителями разных сел [Айни, 1960, c. 235–246]. С. Айни констатировал, что Курбан или Рамазан народ праздновал по одному дню, а Навруз неделями. Хотя праздник был связан с появлением всходов пшеницы и ячменя, а также с началом сева других культур, духовенство придало ему религиозную окраску [Там же, c. 826–827].
Навруз приобрел официальную форму при эмире Музаффаре (1860–1885) после поражения в войне с Российской империей в 1868 г. По мнению информаторов С. Айни, Музаффар, утративший свой престиж в народе, во время праздника устраивал народные гулянья, «стремясь отвести людям глаза от собственных неблаговидных поступков». Приглашались борцы и зрители из бухарских районов Карши, Шахрисябза, Хатырчи, Кермине и Нур-Ата. Гуляния проводились в загородном эмирском саду Ширбадан (Ширбудун) и длились до двух месяцев, а иногда до 70 дней [Там же]. Если организация религиозных празднеств Рамазана и Курбан-хаита была в руках бухарского духовенства, то официальное празднование Навруза оказалось в руках эмирской власти, которая использовала эту возможность в своих политических, идеологических, социальных и экономических интересах. У С. Айни мы находим ответ на вопрос, как же эмир сумел придать неисламскому празднику пышный и широкий характер при существовании в Бухаре влиятельного консервативного религиозного сословия улемов , к которым относили ученых-теологов, законоведов, преподавателей медресе, знатоков шариата – казиев и муфтиев [Сухарева, 1966, с. 297]: Музаффару после подписания мирного договора с Российской империей удалось полностью подчинить их себе, превратив в «свое орудие» [Айни, 1975, c. 294].
По словам Л.И. Ремпеля, при организации Навру-за, имевшего «религиозную и коммерческую окраску», чадыры (палатки) чиновников, баев, купцов, ремесленников находились под наблюдением удайчи и саркарда (военные начальники). Празднества сопровождались выступлениями бродячих артистов, силачей и др. Сайль продолжался до 40 дней [Ремпель, 1981, c. 63–64]. Этниче ский состав приглашенных купцов, ремесленников был разным (таджики, узбеки, евреи, иранцы, афганцы и др.).
При эмире Абдулахаде (1885–1910) в Ширбадане для гуляния были устроены две огороженные площади. Одна называлась «сорокатанобной» (в 10 га). Здесь находились пятничная мечеть, площадки для гуляний и различные по стройки для зрелищ, остальные места были заняты продавцами. На другой площади, которую называли «семидесятитаноб-ной» (в 18 га) раскидывались шатры военачальников и крупных торговцев [Айни, 1960, c. 827–829].
В ритуалы праздника включались и представители суфийских общин – ишаны, устраивавшие свои радения. Распорядителем гуляния был верховный судья или раис Бухары [Там же], что служит дополнительным подтверждением государственной и религиозной легитимации Навруза.
Согласно данным О. Чехович, «ежегодно 18 марта организовывались празднества в Ширбаданском саду бухарского эмира. На площади, где проходили празднества, распределялись места для гостей праздника. Был установлен порядок установки навесов в зависимости от социального происхождения приглашенных. Лучшие места выделялись узбекам-военачальникам, меньшее число мест отводилось торговцам. Наиболее привилегированным был военачальник – тупчи баши или амир лашкар , ему отводили самый большой навес. Затем по очереди шли навесы военачальников сарбазов, военачальников войска – эль-нукеров и торговцев» (ЦГА РУз. Р-2678. Оп. 1. Ед. хр. 448. Л. 14). При подготовке к празднику палатки украшали тканями адраса и шохи , также размещали разнообразные ковры, одеяла, подушки. Для ночного освещения устанавливали 300 фонарей (Там же). Число мелких торговцев доходило до 70. От каждого ремесла участвовало от 4 до 10 чел. При эмире Музаффаре сайли , включая Навруз, длились 70–80 дней, во время которых чиновники награждались подарками от имени эмира. На сайль приезжали гости, торговцы из разных районов Бухарского эмирата, Афганистана, Ферганы, Самарканда, Хорезма, Кашгара, Мешхеда. Ставить лавки в саду Ширбадан разрешалось только избранным купцам из Самарканда, Кабула, Ургенча, Мешхеда, Пешавара (Там же, л. 39). Видимо, стремясь подчеркнуть свое величие, эмир организовывал празднества у себя в саду, где позже был построен один из его дворцов. Здесь отсутствовали какие-либо святилища, поэтому ритуалы ограничивались коллективной молитвой в мечети, после которой следовали спортивные состязания, развлечения, раздача подарков победителям и приближенным.
После завершения официальных мероприятий происходил трехдневный сайли мазор – посещение женщинами бухарских священных мазаров Исмаила Самани и Чашма-и Аюб, а мужчинами кладбища Ходжа Исмат [Ремпель, 1981, c. 63–64]. Отметим, что последующие весенние празднества бухарцев проходили у святилища лидера накшбандизма Бахауддина Накшбанда (1318–1389) и других наиболее популярных мазаров Бухары.
После установления протектората Российской империи над Бухарским эмиратом 21 марта генерал-губернатор Туркестана направлял делегацию в Бухару для поздравления эмира с Наврузом [Абдирашидов, 2011, с. 138, 146]. Очевидно, она принимала участие в официальных празднествах в Ширбаданском саду.
С. Айни отмечает, что в начале ХХ в. на празднике выступали русские артисты цирка [1960, c. 829–833]. Инициатором их приглашения был эмир Абдула-хад, который, видимо, с одной стороны, стремился разнообразить увеселения для го стей, а с другой – подражал властям Туркестанского генерал-губернаторства, приглашавшим цирковых артистов из европейской части Российской империи. Таким образом, в мусульманском обществе Бухары к празднованию были допущены лица немусульманского вероисповедания, и это нововведение было толерантно воспринято населением.
Празднование Навруза в Бухаре описал британский подданый Дж. Локе, который в марте 1904 г. присутствовал на официальных мероприятиях во дворце эмира и как почетный гость получил возможность наблюдать за празднеством из эмирской ложи. Он даже сделал несколько фотографий музыкантов, борцов и собравшихся на праздник жителей. Дж. Локе наблюдал, как 5 000 гостей совершали коллективный намаз перед началом празднества [Locke, 1906].
Данных, которые позволили бы проследить какую-то динамику в праздновании Навруза во второй половине XIX – начале XX в., недостаточно. Имеются лишь сведения об изменении продолжительности празднеств и мест их проведения. По данным С. Айни, при эмире Абдулахаде период гуляний сократился до полутора месяцев. Они начинались в Ширбадан-ском саду, продолжались в загородном дворце Сито-раи Мохи-Хоса и в городке Кермине, где эмир проводил большую часть времени [Айни, 1960, с. 826–828]. При эмире Алим-хане (1910–1920) празднества были еще более сокращены и проходили в бухарском саду Ситораи Мохи-Хоса (ЦГА РУз. Р-2678. Оп. 1. Ед. хр. 448. Л. 20).
Критически к широкому и пышному празднованю Навруза относились некоторые бухарские интелекту-алы, в т.ч. мыслитель Ахмад Дониш. Он подчеркивал, что «из числа новых обычаев, которые во время этого эмира (Музаффара. – А. М.) получили распространение, было празднование нового года» [Трактат…, 1967, с. 90–91]. Дониш признавал исламизи-рованность праздника: «Удивительно, что шейхов города вместе с мюридами также приглашали на эти празднества. Собравшись в круг, они читали маснави Мавлави. В другом месте устраивали зикр, а еще где-нибудь читали молитвы Корана...» [Там же]. Вместе с тем он довольно критически оценивал организацию праздника: «...тут в полном разгаре был базар разврата, азартных игр...» [Там же, с. 91–92]. По мнению автора трактата, «в исламе во время эмира Музаффара проявился всеобщий упадок и полное расстройство. Шариат был принижен властью...» [Там же, с. 94–95]. Взгляды Дониша относительно ограничения расточительства нашли поддержку у бухарских реформистов в начале ХХ в. [Самойлович, 1922, с. 98]. Вероятно, критика пышных празднеств со стороны влиятельных представителей исламских интеллектуалов была одной из причин сокращения масштабов и продолжительности официального празднования Навруза в Бухаре при преемниках эмира Музаффара.
Следуя авторитетному мнению С. Айни, мы считаем, что с эпохи Музаффара в Бухаре существовало два типа празднования Навруза: официальный и народный. На официальные мероприятия власти приглашали гостей из разных городов и других государств, а в народном праздновании в основном участвовали жители Бухарского оазиса. Празднества привлекали бухарцев как семейное торжество, почитание предков, одновременно они дополнялись исламской культовой обрядностью [Ремпель, 1981, c. 63].
Бухарские эмиры использовали официальное празднование Навруза в своих политических, идеологических, социальных и экономических интересах. Централизованная организация праздника, с одной стороны, преследовала цель сплочения политической и экономической элиты Бухары, которая оказалась расколотой в результате поражения эмирата в войне с Российской империей, с другой – демонстрировала простому народу образ власти, следующей давним традициям, освященным мусульманским духовенством. Расширение масштаба празднования, организация торговли, привлечение различных местных и иностранных купцов в условиях экономического кризиса могли иметь определенный положительный экономический эффект для Бухары.
Празднование Навруза в Самарканде
Самарканд, располагавшийся в долине среднего Зе-рафшана, являлся мусульманским городом, известным своими исламскими святилищами, мечетями, и вместе с тем имел свои специфичные черты, локальную идентичность, недостостаточно изученную исследователями. Для него издревле была характерна полиэтничность, а в рассматриваемый период здесь жили таджики, узбеки, иранцы, евреи, туркмены, татары и др. Если столичная Бухара находилась в окружении преимущественно оседлого земледельческого населения, то Самарканд окружали поселения осевших или полукочевых тюркоязычных скотоводов.
Одним из элементов городской культуры Самарканда была конноспортивная игра, характерная для скотоводческого населения, - купкари (улак, кок-бору). Она проводилась обычно в марте и октябре, по случаю свадеб, обрезания малолетних [Арендаренко, 1877], а также во время празднования Навруза. Видимо, эта игра вошла в городскую культуру Самарканда в позднем Средневековье, когда происходил процесс массо- вого оседания полукочевых групп населения в Самаркандском оазисе [Маликов, 2018, с. 120–122]. Кроме того, во время празднования Навруза на территории района Ходжа-Ахрар устраивали кулачные бои, в которых отличались волжские татары и узбеки [Гребенкин, 1872, с. 39].
Сакральные места, где в Самарканде отмечался Навруз, в XIX в. были сосредоточены в районе площади Регистан, культового комплекса Шахи-Зинда и древнего городища Афрасиаб. В мечети Намазга, расположенной на юго-восточной окраине Самарканда, совершался коллективный намаз, а в прилегающем к ней обширном саду с прудами проходили последующие народные гуляния ( сайль ) [Россия…, 1913, с. 677]. В день Навруза жители посещали протекавший вблизи Шахи-Зинда арык Оби-Машхад. По мнению исследователей, образ самаркандского святого Шахи-Зинды, видимо, был связан с Наврузом и культом Сиявуша (герой священной книги зороастрийцев «Авесты» и персидского эпоса «Шах-намэ») [Рем-пель, 1972, с. 45]. Таким образом, произошел синтез исламской идеи жертвенности во имя религии и неисламских представлений о культах святых, включая Сиявуша.
По данным А. Хорошхина, в первое десятилетие после вхождения Самарканда в со став Российской империи массовость в праздновании Навруза сильно сократилась. Основные мероприятия ( сайль с купанием) проходили на ключе Оби-Машхад за воротами Шахи-Зинда [Хорошхин, 1876, с. 207]. В. Вяткин интерпретирует Навруз как мусульманский Новый год, но с целым рядом общих для всех арийских народов обрядов и обычаев, которые он противопоставляет традициям ислама [1897]. По его сведениям, общая схема новогодних празднеств в том виде, в каком они сохранились в Самарканде до конца ХIХ в., была такова: 1) зажигание огней и хождение с огнем на арыке Оби-Рахмат; 2) купание в этом арыке; 3) предсказания; 4) питье заговоренной воды; 5) казан тулды *; 6) употребление в пищу преимущественно птичьего мяса; 7) взаимное дарение крашеных вареных яиц; 8) восхождение на высокие места; 9) хождение с визитами; 10) гуляния за городом, скачки с козлом, борьба и пр. [Там же].
Перед Наврузом в Самарканде предварительно заготовлялись специальные факелы - аташ байдаки ( машалы ). Их зажигали, и самаркандцы, собиравшиеся в группы в зависимости от местожительства (квартал , пригородное село), направлялись к каналу Оби-Рахмат, где мужчины купались, чтобы смыть грехи [Там же]. Название канала носило сакраль-
*Букв. «котел наполнился» (пер. с тюрк.) – обычай приготовления пищи в доверху наполненных котлах.
ный характер. Аналогии находим на юге Узбекистана у дербентцев, по поверьям которых перед Наврузом наступали четыре дня благодатной воды – «оби рах-мат» (с 14 по 17 марта). В случае дождливых дней собирали дождевую воду и купались в ней [Устаев, 1985, с. 99–100]. Широкое распространение этого обычая подтверждается записанным нами рассказом о святой воде «оби рахмат» в Шафирканском р-не Бухарской обл. (Полевые материалы автора. Шафир-канский туман Бухарской обл. Республики Узбекистан, 2001 г.).
Перед Наврузом в Самарканде распространялись предсказания мунаджимов (астрологов), которые за вознаграждение составляли т.н. сал-нама (в пер. с перс. «годовая грамота») и рассылали представителям знати, богачам, знакомым [Вяткин, 1897]. Существовали списки «Сал-намэ» на тюркском языке. До нас дошел список, переписанный в Бухаре в начале XIX в., в котором повествуется о годах 12-летнего «животного» цикла, связанных с ними приметах, а также сообщается, каким будет новый год в зависимости от того, на какой день недели выпадет Навруз [Щербак, 1974, c. 171–179]. Перед самым праздником в продаже появлялись лоскутки бумаги с аятами из Корана с пожеланиями благополучия, а также крашеные вареные яйца. В каждом доме варили пищу в доверху наполненных котлах ( казан тулды ), чтобы наступающий год был урожайным. Для гуляний выбирались преимущественно возвышенности с целью получить должность, разбогатеть [Вяткин, 1897]. Следующий за Наврузом сайли гули сурх проходил у маза-ра Чупан-аты [Сухарева, 1986, с. 33].
В начале ХХ в. реформисты Самарканда неоднозначно относились к празднованию Навруза. Так, в статье в журнале «Ойина» рекомендовалось сократить 40-дневные гуляния в Навруз до трех дней [Аб-дирашидов, 2011, с. 217]. Вместе с тем реформаторы признавали, что этот праздник является частью религии мусульман края [Сиддикий Ажзий, 2005, 142-б].
С включением в состав Российской империи в Самарканде сложились две части города – мусульманская и европейская, – для которых были присущи свои особенности и представления о городской идентичности. Российские власти стремились упорядочить празднование Навруза и других мусульманских праздников в Самарканде на основе российского законодательства. 29 марта 1908 г. исполняющий дела Самаркандского уездного начальника подполковник Мартинсон издал постановление о плате за места, отводимые под качели, карусели, балаганы во время местного праздника сайль*, устраиваемого на Афра- сиабе (городище древнего Самарканда), и Святой Пасхи в русской части города, которое было утверждено военным губернатором области 29 апреля того же года (ЦГА РУз. ф. И-18. Оп. 1. Д. 8854. Л. 2). Анализ документа показывает, что в российских период, по крайней мере к началу ХХ в., сформировалось несколько сакральных мест города в зависимости от религиозно-конфессиональной принадлежности его жителей. Празднества европейцев проходили в европейской части города, а мусульман – на Афрасиабе, святых ма-зарах и в мечетях.
Заключение
Древний праздник Навруз традиционно отмечался в мусульманском обществе Центральной Азии, несмотря на господство исламской идеологии. В Бухарском эмирате его широкое официальное празднование началось при эмире Музаффаре, что было связано со стремлением последнего укрепить имидж узбекской династии мангытов в условиях кризиса политической легитимности в результате поражения в войне с Российской империей и консолидировать коммерческую, военную и политическую элиты страны. В начале ХХ в. по инициативе бухарского эмира Абдулахада к участию в празднике были допущены российские артисты цирка, т.е. лица немусульманского вероисповедания.
В праздновании Навруза слились неисламские верования и исламская интерпретация праздника, который был легитимизирован через молитвы в мечети, посещение мазаров мусульманских святых. Давние дискуссии среди улемов о необходимости отмечать Навруз в XIX в. обрели другие формы: осуждались определенные принципы и широкие масштабы празднования. Эта критика, по-видимому, оказала влияние на сокращение его продолжительности при последующих эмирах. Народное празднование На-вруза отличалось от официального тем, что включало в себя ритуалы почитания предков с посещением святых мазаров.
В Самарканде, для которого была характерна по-лиэтничность, более тесное взаимодействие оседлого таджикского, узбекского населения с полукочевым тюркским способствовало синтезу земледельческих и скотоводческих элементов в ритуальной практике Навруза. Внутригородское административное разделение на мусульманскую и европейскую части отражалось на принципе организации празднующих. С включением Самарканда в состав Российской империи масштабы народного празднования сократились.
Работа выполнена при финансовой и научной поддержке Европейского фонда регионального развития, проект CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000791.
Список литературы Празднование Навруза в Бухаре и Самарканде в ритуальной практике и общественных дискурсах (вторая половина XIX - начало XX века)
- Абдирашидов З. Аннотированная библиография туркестанских материалов в газете «Таржумāн» (1883‒1917). – Tokyo: Department of Islamic Area Studies, Center for Evolving Humanities, Graduate School of Humanities and Sociology, The University of Tokyo, 2011. – 232 с. – (Central Eurasian Research Series; N 5).
- Айни С. Воспоминания. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – 1087 с.
- Айни С. История мангытских эмиров // Собр. соч. – М.: Худож. лит., 1975. – Т. 6. – C. 266–312.
- Ал-Газали Мухаммад Абу Хамид. Кимийа-йи са‘адат (Эликсир счастья). – СПб.; Казань: Петербург. Востоковедение, 2018. – Т. 2. – Рукн 2: Обычаи / пер. с перс. и вступ. ст. А.А. Хисматулина. – 328 с.
- Андреев М.С., Чехович О.Д. Арк (кремль) Бухары в конце XIX – начале XX вв. – Душанбе: Дониш, 1972. – 163 с.
- Ан-Наршахи Абу Бакр Мухаммад ибн Джа’фар. Та’рũх-и Бухãрã: История Бухары / пер., коммент. и примеч. Ш.С. Камолиддина; археол.-топогр. коммент. Е.Г. Некрасовой. – Ташкент: SMI-ASIA, 2011. – 600 с.
- Арендаренко Г. Из Самарканда // Туркестанские ведомости. – 1877. – № 19.
- Брагинский И.С. Праздник весны – Ноуруз и отражение в нем древнейших общих культурных традиций народов советского Востока // Брагинский И.С. Исследования по таджикской культуре. – М.: Наука, 1977. – С. 113–120.
- Веселовский Н.И. Рамазан в Самарканде и Курбан-байрам в Бухаре // Истор. вестн. – 1888. – № 33. – С. 141–147.
- В.В. [Вяткин]. Науруз в Самарканде // Туркестанские ведомости. – 1897. – № 14.
- Гребенкин А.Д. Таджики // Русский Туркестан: Сборник, изданный по поводу политехнической выставки / под ред. В.Н. Троцкого. – М.: [Университет. тип.], 1872. – Вып. 2. – C. 1–50.
- Записки о Бухарском ханстве: (Отчеты П.И. Демезона и И.В. Виткевича). – М.: Наука, 1983. – 149 с.
- Доржиева Д.Д. Календарные праздники и обычаи уйгуров в контексте обрядовой культуры народов Центральной Азии. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2016. – 196 с.
- Лобачева Н.П. К истории календарных обрядов у земледельцев Средней Азии // Древние обряды, верования и культы народов Средней Азии: ист.-этногр. очерки. – М.: Наука, 1986. – С. 6–31.
- Лобачева Н.П. Огни сафара в Хорезме (о забытых праздниках) // Этногр. обозрение. – 1995. – № 5. – С. 24–36.
- Магия Навруза / сост. С. Абдулло. – Алматы: Атамура, 2007. – 320 с.
- Маликов А.М. Тюркские этнонимы и этнотопонимы долины Зерафшана (XVIII – начало XX в.). – Ташкент: Muharrir nashriyoti, 2018. – 216 с.
- Рахимов Р.Р. Нихоли ‘умр: дерево в мифоритуальной символике таджиков // Центральная Азия: традиция в условиях перемен. – СПб.: МАЭ РАН, 2012. – Вып. III. – С. 106–159.
- Ремпель Л.И. Об отражении образов согдийского искусства в исламе // Из истории искусства великого города: (К 2500-летию Самарканда). – Ташкент: Изд-во литературы и искусства, 1972. – C. 36–52.
- Ремпель Л.И. Далекое и близкое: Страницы жизни, быта, строительного дела, ремесла и искусства Старой Бухары. Бухарские записи. – Ташкент: Изд-во литературы и искусства, 1981. – 302 с.
- Россия: Полное географическое описание нашего отечества: Настольная и дорожная книга для русских людей / под ред. В.П. Семенова Тянь-Шанского и общ. Руководством П.П. Семенова Тянь-Шанского, В.И. Ламанского. – СПб.: А.Ф. Девриен, 1913. – Т. 19: Туркестанский край / сост. В.И. Масальский. – 861 с.
- Самойлович А. Первое тайное общество младобухарцев // Восток. – Петербург: Всемир. лит., 1922. – Кн. 1. – С. 97–99.
- Сиддиқий Ажзий. Ташаккур ва рижо // Исмоилбек Гаспринский ва Туркистон / масъул муҳаррир Н. Каримов. – Тошкент: Шарқ, 2005. – С. 140–143.
- Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969. – 336 с.
- Сухарева О.А. Бухара в XIX – начале XX в. (позднефеодальный город и его население). – М.: Наука, 1966. – 328 с.
- Сухарева О.А. Празднества цветов у равнинных таджиков (конец XIX – начало XX в.) // Древние обряды, верования и культы народов Средней Азии. – М.: Наука, 1986. – С. 31–46.
- Трактат Ахмада Дониша «История мангытской династии» / пер., предисл. и примеч. И.А. Наджафовой. – Душанбе: Дониш, 1967. – 141 c.
- Тэрнер В. Символ и ритуал: пер. с англ. / вступ. ст. В.А. Бейлиса. – М.: Наука, 1983. – 277 с.
- Устаев Ш.У. Новый год (Навруз) в мифологических воззрениях таджиков и узбеков // СЭ. – 1985. – № 6. – С. 97–104.
- Хорошхин А.П. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. – СПб.: [Тип. и хромолит. А. Траншеля], 1876. – [6], 583 с.
- Щербак А.М. Сал-наме (по рукописи В 721, хранящейся в Рукописном отделе ЛО ИВ АН СССР) // Письменные памятники Востока: Историко-филологические исследования: Ежегодник. 1971. – М.: Наука, 1974. – С. 171–189.
- Etzioni A. Holidays and Rituals: Neglected Seedbeds of Virtue // We are what we celebrate: understanding holidays and rituals / eds. Amitai Etzioni, Jared Bloom. – N. Y.: New York Univ. Press, 2004. – P. 1–40.
- Grenet F. What was the Afrasiab painting about? // Royal Nauruz in Samarkand: Proceedings of the conference held in Venice on the pre-Islamic paintings at Afrasiab / a cura di M. Compareti, E. de la Vaissiere. – Pisa; Roma: Academia editoriale, 2006. – P. 43–50.
- Haj S. Reconfi guring Islamic tradition: reform, rationality, and modernity. – Stanford: Stanford Univ. Press, 2009. – 304 p.
- Locke J. New Year’s festival at Bokhara / Outing. – 1906. – Vol. 47, N 4. – Р. 387–398.