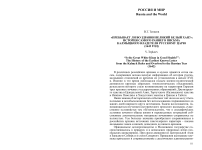"Пребывает ли во здравии великий белый хан?": история самого раннего письма калмыцкого владетеля русскому царю (1642 год)
Автор: Тепкеев Владимир Толтаевич
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Россия и мир
Статья в выпуске: 54, 2017 года.
Бесплатный доступ
Изучение исторического прошлого калмыцкого народа существенно осложняется тем обстоятельством, что в условиях кочевого образа жизни и перенесенных потрясений собственные документы кочевников сохранились далеко не полностью. Тем большее значение приобретают сохранившиеся в российских государственных архивах письма калмыцких ханов и различных представителей калмыцкой знати, которые они писали русским царям. При исследовании взаимоотношений между Калмыцким ханством и Российским государством возникает закономерный вопрос: какой из калмыцких документов эпистолярного жанра, сохранившихся в архивах московских учреждений, является наиболее ранним? Долгое время таким документом считалось послание калмыцкого тайши Дайчина русскому царю Алексею Михайловичу, датированное 1661 г. Впервые оно было опубликовано в 1966 г. В настоящей статье рассказывается об уникальной архивной находке - письме калмыцкого тайши Лузана, датированном 1642 г. и отправленном царю Михаилу Федоровичу. Письмо было обнаружено автором статьи в Ногайском фонде Российского государственного архива древних актов. Наличие этого письма именно в Ногайском фонде, вероятно, объясняет, почему московские историки-монголоведы в 1950-е - 1960-е гг., когда готовили к изданию документы по истории русско-монгольских отношений XVII в., не смогли выявить его. И хотя письмо тайши Лузана - небольшое, оно раскрывает характер политических и экономических отношений между русскими и калмыками в те времена. Кроме того, оно показывает начало становления письменной традиции калмыцкого народа.
Калмыцкое ханство, калмыцкая знать, калмыки, калмыцкая письменность, российское государство xvii в., царь михаил федорович, русско-калмыцкие отношения, внешняя торговля, астрахань
Короткий адрес: https://sciup.org/14913828
IDR: 14913828 | DOI: 10.24411/2072-9286-2017-00019
Текст научной статьи "Пребывает ли во здравии великий белый хан?": история самого раннего письма калмыцкого владетеля русскому царю (1642 год)
V. Tepkeev
“Is the Great White Khan in Good Health?”: The History of the Earliest Known Letter from the Kalmyk Ruler and Overlord to the Russian Tsar (1642)
В различных российских архивах и музеях хранятся сотни писем, содержащих весьма ценную информацию об истории русско-калмыцких отношений со времени их установления в начале XVII в. Именно в это время наблюдался подъем военно-политической активности крупных ойратских этнополитических объединений, результатом которого стало возникновение на территории Евразии трех крупных кочевых государственных образований: Джунгарского ханства в Центральной Азии, Торгутского (Калмыцкого) ханства в Нижнем Поволжье и Хошутского ханства в Цинхае и Тибете.
Наши знания об исторических событиях той эпохи не могут быть полными и всеобъемлющими без использования сохранившихся до наших дней широкого круга источников. Задача исследователя, занимающегося изучением исторического прошлого калмыков, существенно осложняется тем обстоятельством, что в специфических условиях кочевого образа жизни и перенесенных потрясений собственные документальные материалы кочевников сохранились не полностью. Тем большее значение приобретают сохранившиеся в российских архивах источники эпистолярного характера - письма калмыцких ханов и князей, дошедших до нашего времени.
Официальное делопроизводство в Московском государстве сосредотачивалось в приказах и в воеводских приказных избах (воеводских канцеляриях). При своем движении из Центральной Азии в Западную Сибирь и в степи Северного Прикаспия калмыцкие племена приходили в соприкосновение с различными административ- ними центрами сначала в Сибири и Приуралье, а потом и в Поволжье. Это порождало обширную переписку воевод между собою и с Москвой, а также с калмыцкими тайшами. Посольские сношения между русскими и калмыками оставили в центральных и местных архивах много документов самых разнообразных форм и различного содержания. Воеводам русских городов, которые вступали в те или иные контакты с калмыцкими владельцами и их представителями, были предоставлены широкие полномочия по ведению с ними сношений и вообще по принятию мер как мирного, так и военного характера1.
С появлением отдельных калмыцких улусов в волго-яицком междуречье с 1620-х гг. основным центром на юге Московского царства, отвечавшим за ведение русско-калмыцких отношений, стала Астрахань. Местные воеводы отвечали в первую очередь за встречу и отправку калмыцких посольств, они же направляли к тайшам от имени или по государеву указу посланцев. Большое значение для жизнедеятельности Астрахани имели полномочия воеводы по принятию оборонительных и вообще военных мер против калмыков и других кочевников. Их роль была в следующем: они должны были «жить с великим береженьем», собирать сведения о передвижениях калмыков, чтобы те «под государевы города безвестно не пришли» и «какого-либо дурна не учинили».
С прибытием первых калмыцких посольств в Москву в начале XVII в. первым вопросом, как правило, которым их встречали в Посольском приказе, был примерно следующий: «С чем они к государю приехали, грамоты с ними к царскому величеству и сверх грамоты речью приказ есть ли?» Члены посольств обыкновенно отвечали: «Грамотчиков у них в их земле нет и писать не умеют и с ними потому и грамоты к царскому величеству нет, а что с ними к государю словесный приказ, и они то объявят»2.
Действительно, большинство исследователей обоснованно считают, что становление старописьменной калмыцкой традиции происходило во второй половине XVII в., то есть со времени создания буддийским просветителем Рабджамбой Зая-пандитой-хутугтой письменности «тодо бичиг» («ясного письма») в 1648 г. Создав практически новое письмо на основе уйгуро-монгольского алфавита, Зая-пандита устранил многозначность букв, приблизил монгольский старописьменный язык к разговорной речи калмыков того времени. Его реформа состояла в следующем: установление однозначности наличных графем и диакритических знаков монгольского письма; введение новых букв и диакритических знаков; новая орфография; внимание в новом письме сосредоточилось на точной передаче гласных и на четком различии между глухими и звонкими согласными3. «Ясное письмо» Зая-пандиты не могло быть принято всеми монголами, так как слишком точно обозначало конкретное ойратское произношение4.
Судя по архивным материалам, калмыки после появления в степях Северного Прикаспия вплоть до начала 1670-х гг. продолжали использовать традиционное монгольское письмо, но лишь со времени правления хана Аюки в Калмыцком ханстве активно начинают использовать «ясное письмо». Составленные на старописьменном калмыцком языке, эти письма, несомненно, имеют огромную познавательную и научную ценность. Их авторами в большинстве своем являются представители знатной верхушки калмыцкого общества и духовенства. В письмах нашли отражение историческое мышление народа, более архаическое и упрощенное, его оценки отдельных событий и лиц. Здесь мы имеем дело с трансформацией реальных исторических фактов того времени и более раннего периода в устной народной традиции и их фиксацией в письменном виде.
При исследовании русско-калмыцких отношений возникает вполне резонный вопрос: какой из калмыцких письменных документов, отложившихся в русских архивных материалах XVII в., является наиболее ранним? Долгое время таким документом считалось послание калмыцкого тайши Дайчина русскому царю Алексею Михайловичу, датированное 1661 г. и составленное на старописьменном монгольском языке. Впервые оно было опубликовано в 1966 г.5
В 2008 г. в ходе исследования фондов Российского государственного архива древних актов (РГАДА) автором были обнаружены ранее неизвестные письма калмыцких тайшей XVII в. Но наиболее ценной архивной находкой стало обнаруженное в фонде «Ногайских дел» письмо калмыцкого тайши Лузана, датированное 1642 г. Документ по содержанию небольшой, но ценность его состоит в том, что это - самое ранее из известных писем калмыцких тайшей на старописьменном монгольском языке. Наличие документа именно в Ногайском фонде, вероятно, объясняет, почему в свое время московские историки-монголоведы во главе с И.Я. Златкиным, готовившие к изданию материалы по истории русско-монгольских отношений XVII в., не могли выявить данное письмо, составляющее малую долю переписки калмыцкой знати с русскими властями.
Письмо от калмыцкого тайши Лузана в марте 1642 г. привезли в Астрахань русские посланцы Дружина Пшагин и толмач Василий Зиновьев. Астраханские воеводы - князь Никита Иванович Одоевский и князь Никита Михайлович Мезецкий - с момента своего назначения в Астрахань в 1640 г. вступили с калмыками в переговоры, на которых в первую очередь обсуждались вопросы торговли и безопасности калмыцких кочевий, еще не урегулированные окончательно.
Незадолго до этого, в октябре 1641 г. в Астрахань от тайши Сюн-ке, брата Лузана, прибыло торговое представительство из 100 человек во главе с послом Бюрчи, которое пригнало на продажу 1 200 лошадей. Местные власти разрешили калмыкам торг за городом, поставив в охранение калмыцкого базара 300 стрельцов. В этом же месяце вслед прибыло еще одно представительство из 300 торговых людей, пригнавших на продажу 3 тыс. лошадей и 10 тыс. коров и овец. Это были люди тайши Санжина, другого брата Лузана, а его посол Дарын 31 октября был принят в Астрахани. Оба посла привезли подарки для царя и просили предоставить калмыкам «повольный торг». Астраханские власти пошли навстречу тайшам, разрешив продажу местному населению калмыцкой «животины»6.
Обратно же с калмыцкими послами астраханцы отправили к тайшам «для проведыванья» боярского сына Дружину Пшагина, толмача Василия Зиновьева с тремя стрельцами и шестью служилыми татарами. Перед ними была поставлена конкретная задача - выяснить примерное количество калмыцких людей и планы тайшей относительно Астрахани на ближайшее время7.
Астраханские посланцы первоначально остановились в улусе Лузана, который довольно приветливо встретил гостей. Он сообщил русским представителям, что «у великого государя в послушанье быти рад и учнет посылати в твою государеву отчину, в Астарахань, послов своих». Несмотря на свое отрицательное отношение к принятию московского подданства, Лузан отнюдь не был против того, чтобы жить с русскими «в миру и в совете». Тайша не отпустил от себя Дружину Пшагина, намеревавшегося далее отправиться к его братьям, а ограничился лишь отправкой к ним толмача Зиновьева с «государевым листом». Именно его приезд и послужил для них сигналом к отправке в Астрахань своих торговых представителей8. Лузан своим поступком ясно показал астраханцам, кто являлся на тот момент главным среди тайшей, и с кем им нужно было вести переговоры.
Отсутствие отца Хо-Урлюка и старшего брата Дайчина в калмыцких улусах позволило ему перехватить политическую инициативу в свои руки. Хо-Урлюк и Дайчин приняли участие в монгольско-ой-ратском съезде 1640 г. в Джунгарии9. После съезда Дайчин с частью своих улусных людей направился в составе военной экспедиции под командованием Гуши-хана в Тибет для участия в религиозной войне на стороне «желтошапочной» школы Гелугпа против сторонников «красношапочной» школы Карма Кагью. После одержанной победы в 1642 г. Дайчин на долгое время задержался в Джунгарии у своего зятя Эрдени Батура-хунтайджи, не имея возможности проехать в свои улусы в Северном Прикаспии из-за начавшейся междоусобной войны.
Еще с конца 1630-х гг. произошло планомерное разделение калмыцких улусов на две группы. Первая группа (улусы тайшей Хо-Урлюка, Дайчина, Елдена и Кирсана) откочевала на север по Тургай-ской ложбине ближе к западносибирским городам. Другая группа (улусы тайшей Лузана, Сюнке, Санжина и Даян-Эрке) осталась на прежних кочевьях в Северном Прикаспии. Именно с ними и сноси- 114
лись астраханские воеводы, сообщали им о пограничных стычках и т.д. Наступило сравнительно мирное время, хотя мелкие конфликты с соседями не прекращались. Подобная расстановка торгутских улусов была связана, в первую очередь, с урегулированием отношений с чакарскими тайшами и наметившейся консолидацией в ойратском обществе после монголо-ойратского съезда 1640 г.
В декабре 1641 г. в Астрахань прибыла очередная торговая делегация (400 торговцев с 2 тыс. голов скота и лошадей) от Лузана (посол Бердыш) и Сюнке (посол Сенгерчин). Разрешив калмыцким людям торг, астраханские воеводы поставили им в охранение 500 стрельцов. В январе 1642 г. прибыли еще 60 торговых людей тай-ши Санжина (посол Нима-Демчин). В охранение у них стояло 200 стрельцов. Но здесь не обошлось без конфликта. Астраханские татары ограбили и избили двух торговых калмыков из улуса Санжина. Местная администрация сразу же отреагировала на жалобу Нима-Демчина, и, разыскав виновников, посадила их в городскую тюрьму и возместила ущерб10.
Когда в феврале приехали еще 150 торговых людей от Сюнке (посол Сыргенчек), пригнавших на продажу 700 лошадей и более 1 тыс. коров и овец, то астраханские воеводы потребовали у калмыцкого представителя скорейшего возвращения русских послов из улуса Лузана. Сыргенчеку пришлось заверить астраханцев в скором возвращении Пшагина и Зиновьева из калмыцких улусов11.
В марте русские послы, действительно, собрав нужные сведения, вернулись в Астрахань. В калмыцких улусах они узнали о планах тайшей совершить зимний поход на ногайцев, кочевавших по «крымской стороне» реки Волги, но когда до них дошли известия о значительном усилении астраханского гарнизона, отменили эти военные приготовления. Также стало известно им и о прошлогоднем ответном набеге калмыков на Уфимский уезд, где было захвачено в плен 300 человек. Тайши жаловались русским послам на постоянные набеги башкир, наносившие большой ущерб калмыкам. По этому поводу тайши намеревались отправить своих послов в Москву с официальной жалобой на уфимские власти и башкир.
При отъезде астраханцев из улусов Лузан в присутствии Пшагина и Зиновьева собственноручно написал письмо и передал через них воеводам. Но в Астрахани при его рассмотрении не смогли даже определить, на каком же языке написано письмо, несмотря на приглашенных знатоков многих языков. Письмо затем было отправлено в Москву. Несмотря на наличие в Посольском приказе более квалифицированных специалистов, и здесь не смогли перевести текст письма, определив только, «что калмыцкой лист писан мунгальским письмом, а по мунгальски у них никто не умеет, да и наперед сего на такое письмо переводчиков не бывало»12. В начале XVII в. сотрудники Посольского приказа уже были знакомы с письмами на старописьменном монгольском языке от Алтын-хана.
Таким образом, калмыцкое письмо 1642 г. сохранилось в архиве и дошло до наших дней в непереведенном на русский язык виде. Ниже приводится уже современный перевод письма тайши Лузана. Из его содержания видим, что оно адресовано не только астраханским воеводам, но и непосредственно московскому царю Михаилу Федоровичу
Ом сувасти сидам (традиционное буддийское приветствие). Пребывает ли во здравии Великий Белый хан [и великий] Князь, а также Бояре и все [ваши] земли? Мы здесь в [добром] здравии.
Говорят, что у того, кто держит [в руках бразды] правления, седеют волосы (т.е. он проживет до глубокой старости). Когда же он будет воевать (букв, «держать в руках железо»), то погибнет (букв, «у него побелеют кости»).
Летом и зимой я беспрерывно присылал [к вам людей] для торговли. Их прогнали, сказав, что их прибыло слишком много. Сами ведайте - хорошо это или плохо, кто из них враги, а кто торговцы.
Не говоря много слов, скажите, в чем наша вина13.
Как видно, письмо тайши Лузана изложено в традиционном эпистолярном жанре, характерном и для более поздней официальной переписки калмыцкой знати. Язык сжатый, ясный, точный, с элементами образности, и, несмотря на свою лаконичность, полон правды, жизни, динамизма и напряженности14.
Яркое тому свидетельство - очень уместно приведенная в письме мудрая калмыцкая пословица, отражающая реалии существования калмыцкого общества в XVII в.: жестокая борьба за власть и постоянные войны с внешними врагами.
На письмо поставлена красная квадратная печать-тамга Лузана, характерная для более поздних писем калмыцких ханов, написанных в XVIII в. В письмах других тайшей, современников Лузана, подобных печатей нет. По всей вероятности, тамга имеет тибетское происхождение. Ниже нее проставлены еще четыре печати темного цвета, характерные уже для татарских или ногайских мирз, кочевавших совместно с Лузаном и, видимо, подчинявшихся ему. Впрочем, печати калмыцких ханов и тайшей - особая научная область, требующая дополнительного исследования.
Вертикальная монгольская письменность была распространена среди калмыков вплоть до ведения Зая-пандитой усовершенствованного письма в 1648 г. Но, судя по калмыцким письмам 1660-х гг, оно первое время использовалось наряду с монгольским письмом. И только при хане Аюке переписка с российским правительством велась уже строго на «ясном письме». Удивительно, но с распространением письменной грамоты среди отдельных калмыцких тайшей современники связывали падение нравов. Так, тайша Кунделен-Убаши весьма нелестно отзывался об отрицательных, по его мне- 116
нию, последствиях распространения письменной традиции среди калмыков: «Когда не умели писать и к письмам ставить красные печати, говорили правду, а, овладев грамотой, сделались лжецами»15.
Тайша Лузан был одним из немногих калмыцких владельцев того времени, кто владел письменной грамотой. Это, очевидно, было связано с событиями начала XVII в., когда калмыцкие тайши вслед за монгольскими правителями приняли буддизм в качестве официальной религии. Первенствующий тайша Ойратского союза хошутский Байбагас под влиянием буддийского вероучения решил принять монашеский сан, вызвав тем самым недоумение среди его соратников. Чтобы предотвратить уход в монашество столь уважаемого и авторитетного ойратского вождя, каждый из 33-х старших тайшей отдал вместо него по одному своему сыну в послушники-банди для принятия духовного звания. Например, хошутский Байбагас отправил учиться в Тибет усыновленного Зая-пандиту. Хо-Урлюк же со своей стороны отдал третьего сына - Лузана16.
Благодаря буддийским учителям и тибетской школе, он, видимо, овладел не только старописьменным монгольским языком, но и тибетским. Но, как показали дальнейшие события, Лузан все-таки не стал буддийским монахом, как его знаменитый «однокашник» Зая-пандита, но грамотой вполне овладел и тем самым в дальнейшем заложил начало письменной традиции у волжских калмыков.
Реже в документах официальной переписки между калмыцкими тайшами и русскими центральной и местными властями встречаются письма на старотатарском (чагатайском тюрки) или, что еще реже, на персидском (фарси) языках. Причем татарский на юге России в это время служил и языком международного общения, в том числе между калмыками и русскими. Первоначально представители центральных и местных органов власти России выступали против присылки к ним от тайшей писем на калмыцком или монгольском языках. Только примерно с конца XVII в. среди приказных служителей появились толмачи, умеющие переводить письма и грамоты с калмыцкого языка. В дальнейшем обращение к письменности и истории калмыцкого народа дали в России мощный толчок развитию такой важной области ориенталистики как научное монголоведение.
Выявление и исследование писем ойратских тайшей должно быть комплексным при участии историков, лингвистов, источниковедов, этнографов, фольклористов и других специалистов. Как отметил в свое время Н.П. Пальмов, историк калмыцкого народа должен искать содействия специалистов монгольской и тюркской филологии в переводе текстов писем тайшей на русский язык, что сделает их достоянием широкого круга ученых17. Но работа по выявлению и публикации подобных писем, к сожалению, продвигается с большим трудом, практически на энтузиазме нескольких ученых.
Таким образом, если учесть, что количество еще неизвестных калмыцких писем в российских архивах велико и их выявление продолжается, то дальнейшее исследование и сопоставление представляют крайне важное и перспективное направление в монголоведении.
Список литературы "Пребывает ли во здравии великий белый хан?": история самого раннего письма калмыцкого владетеля русскому царю (1642 год)
- Котвич В.Л. Русские архивные документы по сношениям с ойратами в XVII -XVIII вв.//Известия Российской академии наук: VI серия. 1919. Т. 13. № 12-15. С. 815.
- Кара Д. Книги монгольских кочевников (семь веков монгольской письменности). М., 1972. С. 80.
- Яхонтова Н.С. Ойратский литературный язык XVII века. М., 1996. С. 12.
- Кичиков М.Л. Исторические корни дружбы русского и калмыцкого народов: Образование Калмыцкого государства в составе России. Элиста, 1966. С. 141.
- Санчиров В.П. Историческое значение Джунгарского съезда монгольских и ойратских князей 1640 г.//Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2009. № 2. С. 18.
- Сусеева Д.А. Письма хана Аюки и его современников (1714 -1724 гг.): Опыт лингвосоциологического исследования. Элиста, 2003. С. 15.
- Габан Шараб. Сказание о Дербен Ойратах (Калмыцкая летопись)//Лунный свет: Калмыцкие историко-литературные памятники. Элиста, 2003. С. 91, 92.
- Пальмов Н.Н. Очерк истории калмыцкого народа за время его пребывания в пределах России. Элиста, 1992. С. 28.