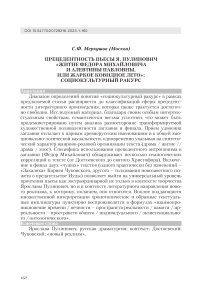Прецедентность пьесы Я. Пулинович "Житие Федора Михайловича и Алевтины Павловны, или жаркое ковидное лето": социокультурный ракурс
Автор: Меркушов Станислав Федорович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (64), 2023 года.
Бесплатный доступ
Диапазон определений понятия «социокультурный ракурс» в рамках предлагаемой статьи расширяется до классификаций сферы прецедентности литературного произведения, которая также трактуется достаточно свободно. Исследуемый материал, благодаря своим особым интертекстуальным свойствам, семантически весьма уплотнен, что может быть продемонстрировано путем анализа разносторонне трансформируемой художественной поливалентности заглавия и финала. Прием удвоения заглавия отсылает к парным древнерусским именованиям и к общей эмоционально-логической каузальности, одновременно указывая на синтетический характер жанрово-родовой организации текста (драма / житие // драма / эпос). Специфика использования прецедентного антропонима в заглавии (Федор Михайлович) обнаруживает несколько семиотических корреляций в тексте (от Достоевского до святого Христофора). Включение в финал двух «чужих» текстов (одного практически без изменений -«Закаляка» Корнея Чуковского, другого - толкования новозаветного сюжета о предательстве Иуды) позволяет выйти на универсальный уровень прочтения пьесы как экстраординарной не только в контексте творчества Ярославы Пулинович, но и в контексте литературного направления нового реализма, к которому, полагаем, оно относится. Вполне поддающиеся множественной интерпретации хронотопические и образные текстуальные импликатуры пунктирно воспроизводятся в формулах «взаимопроникновение времени / вечности - пространств реальности / памяти / ирреальности - пространств общего / индивидуального / экзистенциального / онтологического».
Ярослава пулинович, русская драматургия, контекст, достоевский, чуковский, новый реализм
Короткий адрес: https://sciup.org/149142762
IDR: 149142762 | DOI: 10.54770/20729316-2023-1-160
Текст научной статьи Прецедентность пьесы Я. Пулинович "Житие Федора Михайловича и Алевтины Павловны, или жаркое ковидное лето": социокультурный ракурс
«Прецедентное высказывание» в пьесе – это цитата – знакомый всем с детства стих «Закаляка» К. Чуковского, в котором стираются границы фантазии и реальности вследствие его автобиографизма / автофикционально-сти (подробно об истории термина: [Амирян 2019]). Текст диалогичен и драматургичен: ребенок – дочь Чуковского Мурочка – создает / познает мир посредством рисунка / диалога. Она творчески копирует окружающее предметное пространство, одновременно выполняя главную задачу человека – созидательную. Пространство поначалу структурированно – содержит все, что должно быть в мире: «козочка рогатая» / «елочка мохнатая» / «дядя с бородой» / «дом с трубой» [Чуковский 2013, 160–161]. Но в эту гармонию вторгается персонифицированный хаос – «Бяка-Закаляка кусачая», материальность и объективное бытие которой хотя и подвергается сомнению («я сама из головы ее выдумала»), но вызывает страх, заставляющий прекратить творческий акт: «Что ж ты бросила тетрадь, / Перестала рисовать?» / «Я ее боюсь!» [Чуковский 2013, 162]. Пулинович реконструирует пропорции семейных отношений столетней давности, воспроизводя и форсируя их в реальности ХХI в. Мир исследуемой пьесы как мир воплотившейся «закаляки» предстает в своей современной турбулентности с суетностью, поверхностностью, пустотой, сверхпотреблением, жесткой внутренней и внешней конфликтностью в семейно-родственной сфере, безусловно, масштабируемой драматургом до планетарного уровня тотального родства / антагонизма. В таком прочтении знаки / идеи текстов Чуковского и Пулинович укрупняются и усложняются до кардинальных абстракций / универсализаций, например: Алевтина Павловна / Мать / Родина / Земной шар / Вселенная. Зеркализацией образов двух Мурочек (в стихе и пьесе) обеспечивается возможность репрезентации повторяемости жизненных сюжетов, но в более наглядных и интенсивных формах. Страх перед неорганизованным пространством / временем / сознанием, которое необходимо самостоятельно упорядочивать, поглощает Мурочку пьесы. Она неоправданно персонализирует его причинность в образе «токсичной матери» Алевтины Павловны, образ которой может быть весьма расширен и градиентен, как это показано выше и характерно для других модусов пьесы. Траектория такой взаимозависимости замкнута и закольцована: тот же самый «выдуманный из головы» бытовой детерминизм, как может следовать из разного рода коннотаций текста, актуализируется и в коммуникативных спектрах Маша / Мура – ее дочь Даша // Алевтина Павловна – ее мать. Осознание иллюзорности всякого страха через постижение эфемерности его объекта («из головы») спасает Мурочку (Машу) и Алевтину Павловну, семиотическая и архетипическая природа образов которых многослойна.
Ориентиром в осознании / спасении становится не только стих Чуковского, который Алевтина Павловна прочитывает своей дочери по телефону в финале пьесы. В текст «Жития…» включено «прецедентное имя» Федор Михайлович, вызывающее у читателей вполне однозначные – и «хрестоматийные» – ассоциации с великим русским писателем Достоевским. Этот антропоним – ведущий / первый по очередности появления в тексте. Сначала мы видим его в заглавии, которое сочетает указание на жанр и является двойным, что само по себе встречается не так уж часто, по крайней мере, в драматургии (изобретательные жанровые модели периодически все же высвечиваются в титлах современных пьес: «чудо о шинели в одном действии» / «Башмачкин» О. Богаева /; «штрих», материалы к спектаклю» / «Трезвый PR-1» О. Дарфи /). Интересен сам факт такого сочетания: читатель / зритель, во-первых, настраивается именно на аналогии с идеей Достоевского, а во-вторых – и здесь реализуется менее явная генетическая связь – через эту первую параллель он невольно оглядывается далеко назад, бессознательно соотнося драматургический сюжет с жанровым каноном древнерусской литературы. Непосредственное наличие в заглавии такой последовательной корреляции (Федор Михайлович / Житие) экспансирует одну из гипотетических рецепций последующего текста с возможным различением в нем характеристик экзистенциальной и агиографической литературы. Учительские интонации древнерусского текста, в том числе житийного, перенятые и во многом переосмысленные Достоевским, предположительно, будут снова актуализированы у Пули-нович. Принцип Достоевского, по-видимому, репрезентирован в пьесе, но, как представляется, смысл его в камуфлировании иной, более важной, концепции. Федор Михайлович пьесы – умирающий от рака пес Алевтины Павловны – отождествляет свое имя и самого себя с диссертацией своей хозяйки: «…назвала Федором Михайловичем. Федор Михайлович – это ведь твоя диссертация, правильно? Странно, меня еще не было в твоей жизни, а я уже все равно в ней был твоей диссертацией» [Пулинович]. Научная работа, действительно, могла быть посвящена писателю, но необязательно Достоевскому. В эпизоде с продажей дачи / сада (очередная легко узнаваемая, «хрестоматийная», аллюзия на классический драматургический текст) появляется ссылка на Достоевского, но в непосредственном мнемоническом ассоциативном ряду. Встреча Алевтины Павловны и Саши, которых когда-то связывали более близкие отношения, чем традиционные преподаватель – студент, превращается в ненужные (точка зрения Алевтины Павловны) и бесплодные (результат усилий Саши) попытки вспомнить былое. Саша, будучи, судя по всему, дипломированным филологом, не помнит имени-отчества Достоевского, встраивая их / его в парадигму родственных уз («САША. Это ваш новый муж? / АЛЕВТИНА ПАВЛОВНА. Это Достоевский. / САША. Точно. Просто вы сказали, что у вас кто-то болеет…» [Пулинович]), тем самым находя его / их дополнительный, логичный сколок. Чуть ранее Саша, сам того не ведая, проводит социокультурную и, синхронно, мнемоническую по сюжету, параллель с «каменным цветком», изображенном на этикетке бутылки в прошлом исключительного для них обоих вина. Азбучность «каменного цветка» не случайна не только по причине такой исключительности – вместе с тем в текст вводится уральская литература, интегрированная в сознание читателя через имя Павла Бажова. В русской литературе есть как минимум еще один Федор Михайлович – среди уральских писателей-очеркистов, писателей-народников. Фамилия его Решетников – это автор «Подлиповцев», «Горнорабочих», «Глумовых», в числе прочих явившийся предшественником сегодняшних новых реалистов (преемственность его поэтики и урало-сибирских писателей / драматургов Н. Коляды, А. Сальникова, Р. Сенчина и, особенно, Я. Пулинович исследуется в статье Е.К. Созиной [Созина 2021]). Подобное объяснение не отменяет первой, прямой версии, а подтверждает гипотезу о релятивизме прецедентных феноменов, в нашем случае антропонима заглавия. Антропоним здесь становится и топонимом – вероятно, Алевтина Павловна проживает где-то в уральском федеральном регионе – внучка Даша прилетает к ней самолетом из Москвы.
Двойное название пьесы также отсылает к некоторым стандартам русских рукописных книг (например, «Новый Мартиролог, или Книга, в которой заключаются подвиги мучеников, пострадавших от агарян…» (подробнее: [Крутова 2009])). Сигизмунд Кржижановский связывал феноменологию двойных названий с сензитивно-рассудочной сферой, где преобладает рациональный базис, сопряженный с аспектами дифференциации читателя и работы с иноязычным оригиналом [Кржижановский 2006, 13–14]. По пути формально-содержательной рационализации текста, начиная с заглавия, идет и Ярослава Пулинович. Вторая часть названия пьесы («Жаркое ковидное лето») одновременно как бы адресована современному (во всех смыслах) читателю / зрителю, поскольку в центре – маркер недавней пандемии, теперь, по всей вероятности, навсегда укоренившийся в мировом сознании, подобно знакам чумы и СПИДа. Универсализирует хронотоп рассматриваемого высказывания и вполне допустимое толкование слова «лето» в древнерусском «ракурсе»: лето как метафизический год (от Сотворения мира и / или Рождества Христова) и / или время как таковое – тогда локус и хронос можно воспринимать и как точки предапокалиптического экстремума. Развертывается картина мира в его бесконечности и контрастности в категориях история / современность, увидеть которые можно сквозь призму аналогий / полярностей история / вечность / житие / эпос / народность // лето (современность) / мимолетность / трагедия / драма / индивидуальность. В итоге одной из проблем пьесы и потенциальным предметом другого исследования могла бы стать и дихотомия соборности и индивидуализма, имплицитно наблюдаемая у Я. Пулинович в традиционном аксиологическом сопоставлении и противопоставлении Восток / Россия / Запад.
В образе Федора Михайловича комбинируются и модифицируются различные ипостаси философских концепций Достоевского, развиваемых его героями. Оригинально преломляется хрестоматийная мысль писателя о таком сущностном проявлении русской натуры, как «всемирная отзывчивость». Пес олицетворяет собой вариант этой «всемирной отзывчивости», выраженный в сохранении им неизменного состояния полного и совершенного сращения с окружающим миром – он буквально является частью природы (конечно, благодаря своей природной, доцивилизацион-ной, естественности, предопределяющей собачью верность): «У нее очень красивые руки. Как молодая древесная кора – еще мягкая, но уже начинающая прорастать в толщину и пускать свои первые паутинки узоров вверх по стволу. <…> И тогда я понял, что мы всегда будем вместе. <…> Потому что это выше моих сил – не быть с тобой. <…> А ночью мне снилось огромное поле, по которому мы с сестрами бегали вместе. Была зима, и наши шкуры блестели на солнце. Так иней блестит ранней осенью на лужах. Мы бежали по заснеженному полю. Я бежал быстрее всех» [Пулинович].
Подобно важнейшим, и хрестоматийным, типажам Достоевского, пес Федор Михайлович доподлинно, неподдельно и бессознательно жертвен – и в этом он совокупно изоморфен фигурам святых – агиографическим персонажам. Абсолютный отказ от эго, самости и первобытное отождествление себя и объективной реальности (при ее непосредственном, голом, поэтическом восприятии, несмотря на физический недуг / изъян), сближает Федора Михайловича и с Серафимом Саровским, и с Матроной Московской, и, больше всего, – с тоже канонизированным – Христофором Ликийским, мучеником и псоглавцем, несущим тяготы Христа (Алевтину Павловну можно связать с Алевтиной Кессарийской). Так репрезентируемый образ до некоторой степени созвучен архетипу Христа, в котором личностные интересы смещены в сторону всеобщего. Одновременно, по жанровым канонам жития, только после смерти Федора Михайловича настоящее начинает / продолжает свое чудесное преобразование: «Маша удаляет пост в группе «Токсичные матери». / <…> / Даша танцует на сквере» [Пулинович].
Мотивы возрождения и надежды согласуются с мотивом детства, реализуемом в образах Маши и Даши, которые также можно укрупнять до ре-цепционных пределов «детей божьих». Ближайший контекст располагает к подобным трактовкам – в финале из уст умершего отца (с образом которого также по разным параметрам совпадает образ Федора Михайловича) звучит кардинальная сентенция (а скорее всего и интенция автора – тогда перед нами внесценический герой-резонер): «Ты знаешь, я вдруг понял. Иуда – предатель не потому, что сдал Христа фарисеям. У них могли быть свои договоренности на этот счет. А потому – что не дождался рассвета. Он не дождался воскресения» [Пулинович]. «Прецедентная ситуация» коррелирует с посланием / заклинанием первой строки пьесы, произносимым, что характерно, врачом (ветеринаром), идентифицируемым в культуре с помощью атрибутов могущественного помощника, способного излечивать / воскрешать, сродни Богу / Христу: «ВРАЧ. Вы знаете, все не так уж плохо» [Пулинович]. Это обобщающий диагноз-утешение, командируемый в завершение драмы и совпадающий с оптимистическими манифестациями нового реализма.
Федор Михайлович как персонаж вписывается и в «кинологические» мотивно-образные комбинации знаменитых текстов русской литературы от «Муму» и «Собачьего сердца» до «Верного Руслана», «Недопеска» и «Внука доктора Борменталя». Также семиозис собаки имеет танатологические культурные схождения, но здесь, как кажется, можно говорить и об онтологической экспликации / импликации постоянного присутствия смерти / памяти о смерти / принятия смерти / избавления от смерти.
Резюмируем. Диалектика заглавия объединяет индивидуальный и всеобщий планы: с одной стороны, личная история («Житие Федора Михайловича и Алевтины Павловны»), с другой, глобальный социокультурный кризис («Жаркое ковидное лето»). В громоздком нарочитом (как поначалу может показаться) вербальном сплаве благодаря будто бы рационалистической игре формами проступают контуры органической и гармонической картины реальности – экспликации мироздания, где слиты времена, люди, события.
Финал пьесы открыт: все-таки до конца непонятно, Федор Михайлович сам попадает на радугу или с помощью Алевтины Павловны, судьба которой также не совсем ясна. Если Ярослава Пулинович следует житийному канону (житие писалось после смерти святого), то главные персонажи уходят / ушли из объективной реальности. Но перед нами произведение новейшей литературы, что, конечно же, диктует правила игры совсем иного порядка. Хрестоматийно известен вариант жития протопопа Аввакума, созданный самим автором, не причисленным к лику святых. Между тем мотив самоубийства, отсылающий ко всем представленным литературным примерам, возвращает к допустимости всех интерпретационных подходов.
Помимо очерченных в данной статье художественных взаимосвязей пьесы, которые могут быть лонгированы до общезначимых пределов, возможен глубинный сценарий, генерализируемый до объема понимания эстетического опыта. Как в стихе Чуковского можно видеть абстрактную рефлексию на тему недоверия к авангарду в живописи, так в тексте Пулинович при желании можно отыскать похожий посыл, связанный со стремлением к индуцированию преимущественно реалистических / традиционных тенденций, что сегодня уже представляется недостижимым в полной мере. Исследователи отмечали принцип эпического моделирования в пьесах Я. Пулинович [см. Гончарова-Грабовская 2020], который реализуется и в рассмотренной, сочетаясь с ее лиричностью и безусловной драматургической опосредованностью. Этим же, в частности, обусловлено определенное внимание к метафизике, иногда даже в ущерб сакраментальной для нового реализма социальной каузальности.
В пьесе можно видеть и критику индивидуалистических экзистенциальных мотивов, способствующих хаотизации сознания и действительности, провоцирующих (само)деструктивное поведение. Именно индивидуализм толкает Иуду и героев пьесы на предательство / самоубийство («<…> не дождался рассвета <…> не дождался воскресения» [Пулино-вич]). Побег от абсурда / бессмысленности в любых формах того и другого может выглядеть малодушием, однако основной вопрос пьесы остается не снятым: станут ли люди нового мира на рассвете после вознесения Христа более нравственными, если древние видели в Его пришествии апофеоз духовного развития человечества?
Список литературы Прецедентность пьесы Я. Пулинович "Житие Федора Михайловича и Алевтины Павловны, или жаркое ковидное лето": социокультурный ракурс
- Амирян Т.Н. Двойная идентичность автофикциональной литературы // Человек: образ и сущность. Гуманитарные аспекты. 2019. № 3(38). С. 197-208.
- Гончарова-Грабовская С.Я. Драматургия Ярославы Пулинович (аспекты поэтики) // Журнал Белорусского государственного университета. Филология. 2020. № 2. С. 5-14.
- Гудков Д.Б. Прецедентное имя и проблемы прецедентности. М.: Ленанд, 2020. 152 с.
- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. 261 с.
- Красных В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? Человек. Сознание. Коммуникация. М.: Диалог МГУ, 1998. 350 с.
- Кржижановский С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 4. СПб: Симпозиум, 2006. 848 с.
- Крутова М.С. Лексико-семантическая вариантность компонентов двойных названий русских рукописных книг XVI - XIX вв. (на материале Научно-исследовательского отдела рукописей Российской государственной библиотеки) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2009. № 1(9). С. 16-20.
- Кутяева У.С. Феномен прецедентности в драматургии Н.В. Коляды в социокультурном и функциональном аспектах: дис. ... к. филол. н.: 10.02.19. Екатеринбург, 2013. 254 с.
- Петрова Н.В. Эволюция понятия «прецедентный текст» // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 2010. № 2. С. 176-182.
- Прохоров Ю.Е. Действительность. Текст. Дискурс. М.: Флинта; Наука, 2004. 220 с.
- Пулинович Ярослава. Житие Федора Михайловича и Алевтины Павловны, или Жаркое ковидное лето // Урал. 2022. № 2. URL: https://magazines.gorky. media/ural/2022/2/zhitie-fedora-mihajlovicha-i-alevtiny-pavlovny-ili-zharkoe-kovidnoe-leto.html (дата обращения: 23.03.2023).
- Созина Е.К. Актуальность Решетникова: стиль писателя в современной литературе Урала // Филологический класс. 2021. Т. 26. № 4. С. 219-229.
- Филей Т.В. Прецедентные феномены в драме А.Н. Островского «Гроза» // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2020. № 2. С. 306312.
- Чуковский К.И. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 1: Произведения для детей. М.: Агентство ФТМ, 2013. 598 с.