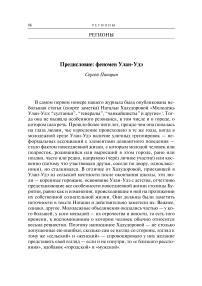Предисловие: феномен Улан-Удэ
Автор: Панарин Сергей Алексеевич
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Регионы
Статья в выпуске: 1, 2002 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14911790
IDR: 14911790
Текст статьи Предисловие: феномен Улан-Удэ
В самом первом номере нашего журнала была опубликована небольшая статья (скорее заметка) Натальи Халудоровой «Молодежь Улан-Удэ: “султанки”, “генералы”, “чанкайшисты” и другие» 1. Тогда она не вызвала особенного резонанса, в том числе и в городе, о котором шла речь. Прошло более пяти лет, прежде чем она попалась на глаза людям, чье взросление происходило в те же годы, когда в молодежной среде Улан-Удэ наличие уличных группировок — неформальных ассоциаций с элементами девиантного поведения — стало фактом повседневной жизни, с которым молодой человек или подросток, родившийся или выросший в этом городе, рано или поздно, часто или редко, напрямую (через личное участие) или косвенно (потому что участвовали друзья, соседи по двору, одноклассники), но сталкивался. В отличие от Халудоровой, приехавшей в Улан-Удэ из сельской местности после окончания школы, эти люди — коренные горожане, освоившие Улан-Удэ с детства, отчетливо представляющие все особенности повседневной жизни столицы Бурятии, равно как и изменения, происходившие в ней на протяжении их собственной сознательной жизни. Они должны были заметить неточности в тексте Наташи и действительно заметили их. Важнее, однако, другое. Молодежные объединения оказались частью — у кого большей, у кого меньшей — их отрочества и юности, то есть того времени, к воспоминаниям о котором человек обычно относится весьма ревностно. Поэтому написанное Халудоровой — не столько допущенные ею ошибки, сколько сам ее взгляд со стороны, взгляд к тому же «сельский» и «женский» — спровоцировало у них желание представить свой взгляд — если и не изнутри, то «с близкого расстояния», вдобавок «городской» и «мужской».
Сергей Алексеевич Панарин, заведующий отделом Института востоковедения Российской академии наук, главный редактор журнала «Вестник Евразии», Москва.
В журнале это желание встретило самый положительный отклик. Еще при формировании первого номера я рассматривал текст Халу-доровой как один из центральных в проблемно-тематическом отношении. Последующие поездки в Улан-Удэ, чтение республиканских газет, разговоры с местными жителями, включая старшеклассников, сравнения с наблюдениями, сделанными в других российских городах и поселках, убедили меня в том, что феномен молодежных группировок в Улан-Удэ требует специального изучения.
Сами по себе возрастные ассоциации, организованные, если следовать известной классификации Бронислава Малиновского, по физиологическому принципу интеграции, представляют отдельный и хорошо известный класс общественных институтов с большей или меньшей степенью формализации и легализации и со сложной историей, уходящей в глубокую древность 2. Их особый социальнотерриториальный тип, городской, в свою очередь, распадается на ряд подтипов, различающихся по времени возникновения, степени формализации и функциям. Группировкам в Улан-Удэ как будто присущи некоторые черты, сближающие их с хорошо описанными в литературе по развивающимся странам 3 неформальными ассоциациями неогорожан — объединениями, представляющими собой своеобразную форму самоорганизации недавних сельских мигрантов для лучшей адаптации в городах. Однако уже в этом пункте намечаются, как минимум, три существенных отличия. Во-первых, в Улан-Удэ одной из важных побудительных причин объединения было также стремление тех, кто с рождения жил в пространстве урбанизации и модернизации в их советском варианте, дать ответ на «вызов» вторгавшихся в это пространство «новичков», которым еще предстояло урбанизироваться и модернизироваться. Во-вторых, в бурятской столице элемент принуждения к участию по принципу проживания на территории действия ассоциаций и иерархичность организации последних оказались более выраженными. В-третьих, с появлением рынка, падением или ослаблением советских институтов государственного и социального контроля над молодежью в неформальных объединениях неуклонно усиливалась криминальная «струя», так что в конечном счете они в значительной мире были интегрированы в систему организованной преступности.
В улан-удэнском феномене можно обнаружить и многие знакомые черты городской молодежной субкультуры, встречавшиеся или встречающиеся в других регионах России. Особенно они характерны для городов, в которых текучий состав населения и высокий удельный вес промышленной занятости на нескольких градообразующих предприятиях причудливо соединился с территориальной разорванностью городских районов, внутрипоселенческой сегрегацией и обусловленными ею некоторыми локальными культурными инвариантами представлений о должном, а значит, и с относительной прочностью отчасти унаследованных от слободы и предместья, отчасти самостоятельно выработанных традиций нормативного поведения 4. Но и в этом случае Улан-Удэ выделяется среди других городских населенных пунктов по степени выраженности феномена, его развития и оформления, его влияния на несколько поколений подряд. А также, видимо, по социально значимым особенностям его эволюции в постсоветское время.
В чем причина этих отличий, если не исключительных, то, как минимум, очень резких, бросающихся в глаза? Почему они, как в фокусе, оказались собраны в городском пространстве Улан-Удэ, тогда как в других городах, в том же соседнем Иркутске, никогда не достигали такой концентрации и устойчивости 5? Думается, что ответ на этот вопрос многое поможет прояснить в самой природе феномена. Но чтобы ответ получить, феномен надо сначала заметить и хотя бы поверхностно описать, а затем всесторонне исследовать. Первый шаг был сделан, когда появилась статья Халудоровой; второй, как кажется, делается сейчас, когда проблемой решили заняться сразу несколько ученых из Улан-Удэ. Они принадлежат к разным поколениям, в разной степени искушены в исследовательской работе, заметно не совпадают в своих взглядах на причины и природу феномена; и как раз все это является залогом появления новых интересных работ о «загадке» молодежных группировок в Улан-Удэ.
Две такие работы уже публикуются в этом номере «Вестника Евразии»; надеюсь, что вскоре за ними последуют и другие. А чтобы читатель мог яснее представить затрагиваемое в них проблемное поле, лучше понять содержание ведущегося в них диалога с давним материалом Халудоровой и вместе с тем не утруждал себя поисками журнала шестилетней давности, в Приложении воспроизведены обширные выдержки из этого материала. Там же перепечатаны фрагменты двух газетных статей, дающие некоторое представление о масштабах и формах так называемого школьного рэкета в Улан-Удэ. Советую сначала прочитать Приложение.
Список литературы Предисловие: феномен Улан-Удэ
- Вестник Евразии, 1995. № 1. С. 167-172.
- Kerry J. N. Studying Voluntary Associations as Adaptive Mechanisms: A review of Anthropological Perspectives//Current Anthropology, 1976, vol. 17. No. 1. P. 23-25.
- Африканский город (Критический очерк зарубежных концепций). М., 1979
- Upreti H. Social Organization of a Migrant Group: A Sociological Study of Hill Migrants from Kumaon Region in the City of Jaipur. Bombay, 1981. P. 81, 147-148, 197, 231.
- Антипин П. Особенности социального зонирования городского пространства Перми//Российское городское пространство: попытка осмысления. М., Московский общественный научный фонд, 2000. С. 88