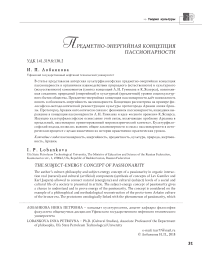Предметно-энергийная концепция пассионарности
Автор: Лобанкова Инна Петровна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория культуры
Статья в выпуске: 1 (81), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье представлена авторская культурфилософская предметно-энергийная концепция пассионарности в органичном взаимодействии природного (естественного) и культурного (искусственного) компонентов (синтез концепций Л. Н. Гумилева и К. Ясперса), позволив- шая соединить природный (энергийный) и культурный (предметный) уровни социокультур- ного бытия общества. Предметно-энергийная концепция пассионарности даёт возможность понять и обосновать энергийность пассионарности. Концепция рассмотрена на примере фи- лософско-методологической реконструкции культуры протогорода Аркаим эпохи брон- зы. Протогород Аркаим онтологически связан с феноменом пассионарности, нашедшим вы- ражение в концепции пассионарности Л. Н. Гумилева и идее «осевого времени» К. Ясперса. Насущно культурфилософское осмысление этой связи, включающее проблему Аркаима в предельный, пассионарно ориентированный мировоззренческий контекст. Культурфило- софский подход позволил выявить общие закономерности и смысл пассионарности в исто- рическом процессе с целью извлечения из истории нравственно-практических уроков.
Пассионарность, энергийность, предметность, культура, природа, жертвен-, ность, аркаим
Короткий адрес: https://sciup.org/144160760
IDR: 144160760 | УДК: 141.319.8:130.2
Текст научной статьи Предметно-энергийная концепция пассионарности
Археологическое открытие на Южном Урале Аркаима – индоиранского урбанизированного поселения эпохи бронзы (XXI–XVIII века до н.э.), условно названного «протогородом», а также целой «Страны городов» (условное название более двадцати поселений подобного типа, расположенных в округе), утвердило археологов в открытии очага культу-рогенеза степей Евразии [3].
В основании Аркаима – два кольца оборонительных сооружений из сырцовых блоков, два кольца жилищ, круговая улица, в центре площадь, вокруг ров и река. Аркаим и «Страна городов» отнесены к синташтинской археологической культуре, учёные её связывают с индоиранскими скотоводами. Общепризнанная в науке степная теория локализует прародину индоиранцев в степях Евразии с последующим переселением в Индию и Иран.
Исследуя проблему происхождения ариев, археолог Е. Е. Кузьмина выявила следующее: «наиболее вероятные предки ариев – создатели памятников Син-ташта-Аркаим на Урале [5, с. 4]».
Культура Аркаим-Синташта – культурный взрыв, пассионарное нарушение исторического процесса степи Евразии в эпоху бронзы. В. В. Отрощенко отметил «соответствие очага культурогенеза (по- нятия археологического) зоне пассионарных толчков (понятию историософскому). Южно-Уральский очаг культуроге-неза совпал во времени и пространстве с первым пассионарным толчком Л. Н. Гумилёва. Гумилёв, выведя на ось пассионарных сдвигов андроновскую культуру, предвосхитил открытие Синташты [7]».
Л. Н. Гумилёв [2] ввёл понятие пассионарность (passio – ‘страстность, энергия’) – стремление к цели, ради которой рискуют жизнью, импульс подсознания, противоположный инстинкту самосохранения, природная причина этногенеза. К. Ясперс [10] выявил культурные предпосылки духовного прорыва, открывающего мировую историю в «осевую эпоху». В статье предпринята попытка синтеза двух известных позиций оппонировавших мыслителей: Л. Н. Гумилёва и К. Ясперса. Л. Н. Гумилёв акцентировал природные истоки пассионарности, К. Ясперс – культурные начала, эпоху «осевого времени», взаимодействие культуры и природы порождает пассионария – исток этногенеза.
Энергийность бытия человека – идеализированная, абстрагированная субстанция деятельной способности.
У П. Тейяр де Шардена в учении о точке Омега энергийность – универсальная любовь. Энергийно Единое неоплатоников. Предметность – термин К. Яспер- са, «исчезающая предметность» девизио-нируется, но не исчезает, а универсализируется и даёт обозначение всё большему числу отношений и деятельной способности человека. Энергийно понятая пассионарность позволяет увязать предметный и энергийный уровни социокультурного бытия. Методологически ведущую роль играет движение предметной формы по трём уровням бытия (вещь, деятельность, мысль). Предметные формы соответствуют уровням предметной идентичности «Я».
Теоретическим основанием исследования пассионарности в диалектике предметности – энергийности является концепция обратного отношения предметной и энергийной сторон бытия человека в концепции А. Б. Невелева (чем меньше предметная определённость бытия, тем больше его энергийная насыщенность) [см.: 6]. Культура Аркаима в философско-методологической реконструкции в рамках предметно-энергийной концепции бытийствует на четырех уровнях предметной формы: 1) археологические артефакты – уровень формы, опредмеченной в вещественно-предметном бытии (колесо со спицами, погребальный и производственный инвентарь), – способ передвижения, сохранения, производства – восстановление ископаемых объектов на основе содержащейся в них информации о производственной подсистеме предметного мира, представлены в Аркаимском музее – археологическая реконструкция; 2) деятельность – распредмеченный уровень вещественной формы, снятая с артефактов форма действий: а) деятельностно-образное раскодирование артефактов (колесница, курган, металлургическая печь-колодец) – историческая реконструкция; б) образ Аркаима, переданный через искусство (спектакль, балет, фильм, литература, скульптура, живопись) – трансмедиальная реконструкция [9]; 3) мышление – словесно-знаковый уровень, свёрнутая в мысли форма действия с вещью (идеализация, сознание, язык, слово, знак, идея), – косвенные индоиранские источники – ведические тексты, где слово – высшая творческая сила, способная создавать Космос, а мир – результат мысли и слова божества (конструкция Аркаима в форме вары или мандалы, «воплощение структуры птичьего крыла в храмово-погребальном комплексе – Большом Синташтинском Кургане – соотнесено с архетипическими образами горы и птичьих крыльев в погребальном обряде в индоиранских и месопотамских текстах [4, с. 78]»), – сравнительно-историческое языкознание в археологии – лингво-археологическая реконструкция; 4) энергийный уровень предельных идеализаций бытия – преодоление предметной определённости мысли, идентичность «Я» с бытием как таковым, единство с бытием в трансценденции (энергийно-пас-сионарная фаза) – культурфилософская реконструкция. Предметная определённость знака (слова) сходит в непредмет-ность, сопряжённую с энергийностью. Трансформация предметного в энергий-ное – сбрасывание предметной формы (жертвоприношение коня (ашвамедха); сожжение Аркаима перед уходом (потлач)). Выйдя на уровень предельной мыслительной духовной раскованности, индоиранские пассионарии наполнили при-родно-энергийной мощью своего «Я» три формы бытия (вещь, деятельность, мысль) и, создав новую форму культуры, построили Аркаим.
Размышления Л. Н. Гумилева о пассионарности приводят к целостному пониманию человека, где природное (человек – часть биосферы) связано со сверхприродным (человек – субъект мироздания), но что лежит в основе выбора человека – Л. Н. Гумилев не ответил.
В культурфилософском исследова- нии пассионарности попытаемся ответить на поставленный Л. Н. Гумилевым вопрос: что лежит в основе выбора человека?
Привлекая к предметной стороне исследования энергийную составляющую социокультурного бытия человека, увяжем её с концептом пассионарности и в диалектике её предметной и энергийной сторон доведём исследование до уровня объективной мыслительной формы. Дадим понятию «пассионарность» философское определение: пассионарность – это энергийность, непредметность, неприкаянность, идентичность с духом, энергийный деятельный поток, который упирается в абстрагированное, идеализированное, безотносительное отрицание, «безотносительное не- », запрещающее этот поток, делая абсолютной остановку бытия, когда становится возможной идентичность с духом в онтической форме, то есть реальное переживание духовной вспышки, и дух, обратившийся к самому себе с культурным самозапретом, может сделать свободный философский выбор, находясь в состоянии единства с бытием. Синергия природных истоков пассионарности и её культурных начал является конституирующим, генетическим основанием возникновения, обновления и динамики культуры.
В философско-методологической реконструкции пассионарности в динамике культуры в логике вертикального движе- ния предметной формы по трём уровням бытия: от артефактов через деятельностно распредмеченный уровень исторических реконструкций к уровню предельных идеализаций чистого разума, сознания, мышления до энергийного уровня Единого, где преодолевается предметная определённость мысли, кончается «по- рядок природы» и начинается «порядок свободы», в предельно предметном «не» («нетости», по К. Ясперсу – «исчезающей предметности» – тенденции развития предельной энергийности) пассионарий осознаёт себя местом энергии бытия и морального закона, что сопряжено с энергийностью, раскрепощающейся от предметности артефакта через символику образного действия к абстрактности мысли, которая ставит слово (знак) на место образа. Предметная определённость знака, слова сходит «на нет», в не-предметность, сопряжённую с энергийно-стью. Пассионарий идентичен энергийно-сти (вибрации) предельного слова, в нём соединяются природная энергийность и предельная культура, прекращается старый предметный мир и начинается новый.
«Я» пассионария находится на каждом из четырех уровней бытия, и персональная идентичность в разных предмет-но-энергийных качествах даёт постоянный внутренний диалог «Я» между уровнями в процессе становления.
Так, культурфилософское осмысление феномена пассионарности подводит к мысли о том, что в основе выбора пассионария лежит моральный закон (по И. Канту, чистота разума – это непред-метность, энергийность, чистота духа – по сути, это и есть пассионарность), выстраивающий шкалу ценностей пассионария (по Л. Н. Гумилеву [2]) по уровням
«исчезающей предметности»: от 1) благоустроенного предметного бытия обывателя – к уходу от предметности через: 2) поиск удачи; 3) к идеалам знания и красоты; 4) идеалу успеха; 5) идеалу победы и 6) к высшему идеалу – жертвенности (предельной энергийности – пассионарности уровня «исчезающей предметности», по К. Ясперсу).
Пассионарность, часто связанная с подвигом самопожертвования, выявляет всеобщее в человеческой сущности и транслирует его в культуру. Но жертвенность пассионария может раскрыться лишь на последней ступени иерархического структурирования души, как духовное рождение для любви как таковой в открывшейся ему целостности любящего бытия через идеальное целеполагание, чистоту сердечного устремления к совершенству, духовный прорыв к универсальности и духовную трансформацию, исходя из базисного конструкта сущности культуры – духовной природы человека, где синтез его природной пассионарности и культурной укорененности возводит к всеобщему. И только любовь, привлекающая чистый огонь (энергии) пространства, как живую связь с трансцендентным миром, и стремление к общему благу, когда индивидуальное (предметное) становится всеобщим (энергийным), способны подвигнуть человека к самопожертвованию. И только культура, её духовные взлёты связаны с добродетелью, святостью и героизмом добровольной «искупительной жертвы» пассионариев (Сократ, Христос, Дж. Бруно), где разрушение предметного (материального) ведёт к развитию энергийного (духовного) [1].
Так, развитие концепций Л. Н. Гумилева и К. Ясперса в их синтезе рождает концептуальное философское видение пассионарности.
Рассмотрим пассионарность в мифологическом мировоззрении. Энергий-ность (пассионарность) возникает за счёт уменьшения предметной определённости бытия. Мифы создали люди, самые на тот момент продвинутые пассионарии, которые сбросили с себя всю предметную определённость и, соединив в себе природные истоки и культурные возможности, вышли на уровень духа. И энергий-ность созданной ими вещи, объекта – это плод ритуальной деятельности пассионариев, их образного мышления и концентрации энергии в предельном знаке – категории бытия, которая играет роль линзы.
Строя Аркаим по сюжету мифа, пассионарии сооружали архетип Космоса. В ритуале происходит слияние пассионария с бытием, природой, Космосом, Богом, выход на предельную концентрацию энергийности экстатического бытия духа (аналог экстаза духа: философствующий Парменид, мистический экстаз неоплатоников, суфиев), где «Я есть» – потенциальная полнота всех возможных форм деятельности – идентичность с энергией – мощный энергийный напор, когда дух собран в слове, голосе, заклинании, мантре, молитве, которую ритмично вкладывают в ритуальный объект. И не смысл имеет значение, его вообще в такие моменты нет, поскольку в мистическом экстазе отключено рациональное мышление, но ритм, наполненный энергийной мощью пассионария, и его воля, его дух, слившийся с Единым. Затем энергийная мощь космического ритма была перенесена на словесно-знаковый уровень мышления, способного выразить её в языке, сло- ве, знаке, идее, где знак с помощью слова извлекает отношение из относящихся сторон и оно существует как идеальное – объективная мыслительная форма в сознании. Идею (мысль) пассионарий воплощает в знак (слово) через символ ритуала (действие) в предметность (вещи), которая становится энергийной, обретает имя / символ, содержащее эманацию личности, и отражает заложенный мифический образ.
Таким образом замыкается герменевтический круг динамики культуры, связанный с трансформацией её предметной формы: от универсалии к мысли, через деятельность к вещи (нисходящий апофатический – непознаваемое разумом мистическое Богооткровение), и обратное вертикальное движение: от вещи че- рез деятельность к мысли и к универсалии (предельной абстракции) – движение от предметности телесной к предметности, сопряжённой с энергийностью (восходящий катафатический – Богопозна-ние по иерархии аналогий тварного бытия Творцу). Жертвенный конь – символ тела (формы) Праджапати (Творящий принцип, Абсолют), единосущностен с Праджапати (мистическое приобщение), не символ высшей реальности, а проявление её самой.
В мифологическом мышлении бого-познание – это, помимо коллективного опыта в результате горизонтального энергоинформационного обмена в сообществе, вертикальный энергообмен с Кос- мосом при восполнении сопричастности в мифе через ритуал на сенсорно-перцептивном уровне когнитивной системы.
Это связь содержания и личностного смысла пассионария, идентичного с духом в онтической форме, – момент ре- ального переживания духовной вспышки, соединяющей с Единым, результатом которой является мысль – самая высокая созидательная энергия. Но венец мысли здесь – не предметная сторона знаний, которые субъективны по форме и объективны по содержанию, а энергийная природа ценностей, которые объективны по форме и субъективны по содержанию.
Именно объективная мыслительная форма создаёт предметные основания для концентрации жизненных сил и жизненной энергии. Объективная природа формы ценностей, которая присутствует в мифе, легенде, несёт смысл этой созидательной энергии, где отражены надежды, воля и достижения народа, и каждый вождь, каждое открытие, бедствие или подвиг облекаются в миф и легенду субъ- ективного содержания.
Духовное устремление коллектива запечатлевает образ истинного, объективного значения, и символ означает мировой знак – язык созидателей мифа и легенды мира, носителей подвига пассионариев. Так, мифологическое мышление – это моделирование мира, позволяющее трансцендировать, выходя за пределы непосредственного бытия, опредмечивать мир собственных значений, смыслов, фиксируя и передавая его в опыте поколений. Эту функцию в мифе выполняет культурный герой – пассионарий мифа, являющийся средоточием этих предельных смыслов, совершающий подвиги во имя общего блага, становящийся идеаль- ным архетипом – символом трансцендентных смыслов мифа, вносящим эти универсальные бытийственные смыслы и духовные ценности в социум.
Миф – способ идентификации с культурным героем, процесс идейно-смысло- вого, деятельного, предметного освоения мира. Так, бытовой уклад степного образа жизни (предметный уровень артефактов), деятельность (энергийность) и мысль (мифологическое сознание) определяют основу пассионарности древних скотоводов степной Евразии.
Однако, кроме связи коллективной психологии скотоводов эпохи бронзы и поздних кочевников степи с естественной средой, интерес представляют их религиозные и ценностные различия с земледельцами Древневосточных государств. Г. Франкфорт сравнил земледельцев Востока с кочевниками пустыни – евреями: «Ветхозаветный трансцендентный Бог преодолел восточные мифы об имманентном божестве. Цена свободы кочевника – отказ от значащих для земледельца форм и потеря связи с явлениями жизни и произрастания. В одиночестве пустыни, где черты ландшафта – лишь вехи, не имеющие собственного значения, – образ Бога трансцендентен совокупности явлений, и человек будет слышать голос Бога, подобно пророкам … Для всех древних народов (кроме евреев) личность – часть общества, общество включено в природу, природа – лишь проявление божественного. Догмат евреев – абсолютная трансцендентность Бога, не присутствующего в природе [8, с. 209]».
Однако аналогии экзистенциального единения с бытием и трансцендентного общения с Богом можно предположить и в условиях Евразийского степного пространства, когда индоиранский пассионарий в силу своей природно-энергийной предрасположенности и культурно-предметной обусловленности в особом состоянии сознания мог слышать голос Бога открытым сердцем, выйдя на уровень экс- татического бытия духа, как слышат его те немногие личности любой эпохи, культуры и религии, играющие в истории созидательную роль. Любые учения, догматы, мантрамы и молитвы поддерживают лишь внешний ритм соединения с Высшим миром, который не спасёт человека, религию или культуру, если его внутренний смысл не проникнет в сердце. Так умерли гимны Ригведы, не проникнув в сердце. Так ушёл из христианства главный завет Христа о любви к Богу в человеке. Так со временем выхолащивается дух из любой религии и этического закона, оставляя лишь буквы и догмы, пока новый пассионарий не очистит его и не вернёт к жизни, вдохнув в него силу своего духа, энергии, страсти, мысли, а главное – любви.
Задача пассионария – раскрыть в себе предельно любящее состояние, когда «Я» совпадает с бытием любви как таковой, и проецировать это состояние на социум.
И сегодня нам необходим пассионарий, одухотворяющий мир и наполняющий своей энергийностью и высокими смыслами всё, чего касается его мысль и деятельность, как человек с бескорыстными намерениями, открытый миру и готовый к самопожертвованию ради идеи, – в нём прекращается старый мир и начинается новый. Необходимо переосмыслить и заложить основы новой культуры, по-новому взглянуть на всемирную историю и историю нашей страны. Это – дух времени, новый расцвет нашей пассионарной культуры.
Так, философско-методологическая реконструкция пассионарности – это реконструкция сущностной природы пассионария как человека, через призму сознания которого мы смотрим на культуру, народ, человечество.
Список литературы Предметно-энергийная концепция пассионарности
- Горелов А. А., Горелова Т. А. Жертва как точка бифуркации духовной культуры // Философия и культура. 2008. № 6. С. 143-160.
- Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли / [сост. указ.: Е. М. Гончарова]. Москва: Айрис- пресс, 2011. 560 с.
- Зданович Г. Б., Батанина И. М. Аркаим - «Страна городов». Пространство и образы (Аркаим: горизонты исследований). Челябинск: Крокус, 2007. 279 с.
- Зданович Г. Б., Малютина Т. С. Большой Синташтинский курган - древнейшее храмо- во-погребальное сооружение степной Евразии // Горизонты цивилизации. 2017. № 8. С. 68-84.
- Кузьмина Е. Е. Арии - путь на юг / Российский институт культурологии. Москва; Санкт- Петербург: Летний Сад, 2008. 558 с.
- Невелев А. Б. Бытие человека: диалектика предметности и энергийности // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 15. Философия. Социология. Культурология (выпуск 24). С. 30-34.
- Отрощенко В. В. Южно-Уральский очаг культурогенеза на оси пассионарных толчков // Доно-Донецкий регион в системе древностей эпохи бронзы: материалы археологического семинара. Выпуск 2. Воронеж: ВорГУ, 1996. С. 29-31.
- Франкфорт Г. и др. В преддверии философии: Духовные искания древнего человека: [пер. с англ.] / Г. Франкфорт, Г. А. Франкфорт, Дж. Уилсон, Т. Якобсен; [отв. ред. и авт. вступ. ст., с. 3-21, В. В. Иванов]. Москва: Наука, 1984. 236 с.
- Шакиров С. М. Аркаим как трансмедиальный образ // Горизонты цивилизации. 2017. № 8. С. 279-290.
- Ясперс К. Смысл и назначение истории: [пер. с нем.] / [вступ. ст. П. П. Гайденко, с. 5-26]. Москва: Политиздат, 1991. 528 с. R e f e r e n c e s