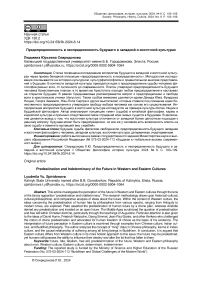Предопределенность и неопределенность будущего в западной и восточной культурах
Автор: Спиридонова Л.Ю.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию восприятия будущего в западной и восточной культурах через призму бинарной оппозиции «предопределенность и неопределенность». Методология исследования основывается на историко-культурном, культурфилософском и сравнительном анализе представлений о будущем. В контексте западной культуры приводятся идеи о предопределении судьбы человека философов разных эпох, от Античности до современности. Платон утверждал предопределенность будущего человека божественным планом, в то время как Аристотель отрицал любое предопределение и настаивал на открытом будущем. В рамках Средневековья рассматривается вопрос о предопределении и свободе воли в христианском учении (Августин). Также особое внимание уделяется идеям Дэвида Юма, Фридриха Ницше, Георга Зиммеля, Жан-Поля Сартра и других мыслителей, которые ставили под сомнение идею божественного предопределения и утверждали свободу выбора человека как основу его существования. Интерпретация восприятия будущего в восточной культуре исследуется на примере культуры Китая, Индии и буддийской философии. Автор анализирует концепцию «мин» (судьба) в китайской философии, кармы в индийской культуре и причинно-следственной связи страданий всех живых существ в буддизме. В заключение делается вывод о том, что восточная культура отличается от западной более целостным подходом к данному вопросу: будущее может быть предопределено, но все же у человека есть возможность влиять на свою судьбу и изменить выпавший ему «жребий».
Будущее, судьба, фатализм, свобода воли, предопределенность будущего, западная и восточная философия о человеке, западная культура, восточная культура, детерминизм, индетерминизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149146439
IDR: 149146439 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2024.8.14
Текст научной статьи Предопределенность и неопределенность будущего в западной и восточной культурах
Введение . На протяжении всей истории человечества (начиная с древних цивилизаций вплоть до наших дней) будущее всегда вызывало у человека неподдельный интерес. В ранних культурах будущее связывалось с темой судьбы и предназначения. Подлинный замысел существования человека был недоступен для понимания, скрыт за границами обыденности и имел отношение к миру божественного. У него была возможность соприкоснуться со своим будущим через особых людей-проводников (жрецов, предсказателей, пифий, астрологов) и различные системы гаданий и «тайных» знаний.
С установлением мировых религий в рамках уже религиозной культуры появляются отдельные жанры, связанные с будущим человечества: эсхатологические предсказания, пророчества, наказы великих учителей, отцов-основателей церквей, наместников Бога, святых и уважаемых духовных наставников. Но постепенно будущее трансформировалось из нечто, принадлежащего области сакрального, в объект научного исследования. Уже начиная с XX в., ученые относительно новой научной отрасли футурологии пытаются составить наиболее точные прогнозы о человеке и обществе, не столько «предсказывая», сколько просчитывая все возможные сценарии и варианты будущего. В то же время форсайт-исследования, как «заглядывание» за горизонт развития событий, стали неотъемлемой частью нашей действительности, и без них, как правило, не обходится принятие самых важных решений на уровне государств и авторитетных международных организаций.
На современном этапе истории будущему уделяется все больше внимания. Недавние эмпирические данные австралийских философов-феноменологов подтвердили идею о том, что люди в своем сознании более ориентированы на будущее (“future-bias”), чем на прошлое. В ходе мыслительного эксперимента участники делали свой выбор в пользу будущего (Greene et al., 2022). Они предпочли бы иметь даже меньшее благо в будущем, чем большее благо в прошлом, или выбирали, чтобы более болезненные переживания принадлежали прошлому, а менее болезненные – будущему, поскольку будущее для человека определенно важнее и ценнее, чем прошлое.
Учитывая такую сильную озабоченность человека будущим, мы можем говорить о том, что проблема предопределенности и неопределенности в восприятии грядущего остается одной из самых значимых в западной философской антропологии, философии культуры.
Вместе с тем возникают вопросы: насколько правомерно это утверждение для восточных цивилизаций? Как рассматривается будущее в культурах Востока с точки зрения предопределенности и неопределенности? И есть ли сходства и различия в восприятии будущего в культурах Запада и Востока?
Методология . В этой научной статье проводится историко-культурное, культурфилософ-ское и сравнительное исследование концепций будущего человека в западной и восточной культурах через призму бинарной оппозиции «предопределенность и неопределенность». Использование метода «бинарной оппозиции» К. Леви-Стросса (1983), по мнению автора, позволит в полной мере рассмотреть максимально широкий спектр представлений о будущем в западной и восточной культуре, уделяя равное внимание обеим культурам.
«Предопределенность и неопределенность» будущего в истории культуры Запада . Древнегреческая культура по большей части характеризуется предопределенностью будущего и фатализмом. В литературном творчестве эта тема стала источником вдохновения для известных драматургов того времени. Страдания героев от неизбежности судьбы (фатум) и беспомощность их перед предсказанным будущим были основными сюжетами трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида.
В философской мысли Древней Греции видное место занимает Платон, который в своих трудах обращался к проблеме детерминизма – предопределённости будущего человека. Философ в своей десятой книге «Законов» вступает в полемику с атеистами, он рассматривает три их утверждения: 1) богов не существует; 2) боги существуют, но не заботятся о человеке; 3) боги существуют, и их легко расположить к себе через мольбы и жертвоприношения (Платон, 2014: 320).
Платон опровергает первое утверждение, приводя доказательства того, что Вселенная является следствием не случайности, а тщательно продуманного плана. Таким образом, существование богов можно обосновать, используя космологические аргументы, которые опровергают концепцию случайности. Отвергая второе утверждение атеистов, Платон указывает, что боги действительно проявляют заботу о Вселенной вплоть до самых незначительных деталей. Ведь если они заботятся о целом, то они тем более будут следить за второстепенными частями.
Каждая часть Вселенной играет свою роль в создании целого, и все части находятся под контролем правящей силы богов. Ошибка атеистов заключается в том, что они отрицают этот порядок и не замечают своего собственного участия в этом событии. Поэтому не стоит вопрошать о том, что Вселенная может сделать для нас и как склонить на свою сторону богов, а, скорее, нужно задать себе вопрос: что я могу сделать для Вселенной? Поскольку человек – лишь одна из частей, крупица, вносящая свой вклад в целое для того, чтобы обеспечить Вселенной процветание.
Похожая мысль была озвучена и в более ранней работе Платона «Государство». В идеальном государстве Платона разделение труда и, соответственно, принадлежность к одному из сословий происходит на основе природных задатков человека (качеств его души) и потребностей общества (Платон, 2015: 139). Таким образом, каждый гражданин должен играть отведенную для него предопределенную роль и трудиться на благо государства.
Трактовка Платоном вопроса о предопределении раскрывает тесную связь между космологией и этикой. Будущее и судьба человека у Платона связана с именем богини Ананке, которая является аллегорией вселенской необходимости. У нее есть три дочери-мойры: Лахесида дарует жребий душе, Клото прядет нить судьбы и поет о настоящем, Антропос – олицетворение будущего и неизбежности – отрезает нить жизни. Веретено Ананке представляет собой мировую ось, вокруг которой находятся восемь сфер (Платон, 2007: 488). Вращая свое веретено, богиня Ананке запускает движение во всех сферах, и будущее человека, согласно предопределенному плану богов, неизбежно произойдет. Человек не может противиться высшему замыслу, он должен внести необходимую лепту в общее благополучие.
В отличие от Платона, Аристотель отрицает какую-либо предопределенность и настаивает на открытом будущем. В 9 главе своего труда «Об истолковании» он логически рассуждает о завтрашнем морском сражении (Аристотель, 1978: 99–102). С одной стороны, к прошлым событиям или происходящим в настоящем применим принцип бивалентности: их можно оценивать с точки зрения критерия истинности или ложности, но, с другой стороны, с точки зрения будущего, это невозможно осуществить, поскольку будущее ещё не наступило. Ян Лукасевич предлагает традиционную трактовку: будущее не истинно и не ложно, оно неопределенно (Бутаков, 2016: 275).
Что касается возможности божественного провидения по поводу будущего и судьбы человека, то у Аристотеля Бог, скорее, рассматривается как метафизический принцип, не имеющий какой-либо преднамеренной связи с Вселенной, которая зависит от него. Исследователь Н.П. Волкова делает следующие выводы о сущности Бога по Аристотелю: Бог является совершенной формой, не подвергающейся движению и, следовательно, изменениям, чистой действительностью, нематериальной деятельностью Ума, бесконечно созерцающего такого же совершенного самого себя (Волкова, 2017: 99). У метафизического Бога практически нет возможности для какой-либо провиденциальной «заботы» о будущем человека.
В «Никомаховой этике» Аристотель изучает свободу и ответственность самого человека по отношению к своему будущему. Античный философ не утверждает, что будущие поступки и склонность к добродетели, как единственный путь к счастью, к которому стремятся все люди, полностью детерминированы характером человека (хотя взаимосвязь может быть) или же зависят только от него (могут повлиять и внешние обстоятельства). Аристотель говорит о том, что для достижения счастья каждый индивидуум должен найти баланс между двумя крайностями, в которых находится добродетель, и сделать сознательный выбор в ее пользу (Аристотель, 2020).
Вопросы о предопределении и его последствиях для судьбы и свободы человека активно обсуждались среди стоиков, которые разработали наиболее сложную и радикальную доктрину божественного предопределения. Они практически ставили знак тождества между предопределением и судьбой. Вследствие чего человек может достичь счастья только при условии принятия неизбежного порядка вещей как составляющей вселенского плана, направляемого провидением. Будущее человека предопределено, а достижение счастья связано с принятием своей судьбы (amor fati). Для человека наиболее благоприятно то, что угодно воле или замыслу Бога (Эпиктет, 2023: 107).
Философы-стоики утверждали, что наши действия свободны в той мере, в какой они являются результатом решений относительно того, что зависит от нас, даже если эти решения являются частью полностью определенного хода событий. Человек никогда не сможет избежать этого универсального детерминизма и считаться по-настоящему «свободным».
Человеческая свобода может существовать только для того, кто принимает во внимание двойную перспективу: с точки зрения всей Вселенной, поскольку все предопределено, и, тем не менее, с нашей собственной ограниченной точки зрения. Без знания будущих событий или конечных последствий наших решений, кажется, что выбор уже сделан, и мы можем свободно решать, что делать. И только по-настоящему мудрый человек может увидеть совершенную гармонию этой двойной перспективы.
Стоики и неоплатоники (Плотин, Прокл), придерживавшиеся платоновской концепции высшего божественного замысла, но отрицавшие отождествление провидения и судьбы человека, оказали сильное влияние на христианских мыслителей Средневековья.
В христианском учении вопрос о предопределенности и свободе воли человека имеет основополагающее значение. Здесь наиболее авторитетно мнение Августина Блаженного. Философ-богослов придерживался жесткого детерминизма: судьба человека предрешена. Хотя человек был создан по образу Бога и наделен свободой воли, человеческая свобода воли в конечном итоге привела к первородному греху и отдалению от Бога. Человек слаб и не может самостоятельно прийти к спасению. Бог наделил благодатью определенных людей, которые, благодаря этому, получат в будущем вечное спасение (Августин Блаженный, 2008: 328).
Как видим, долгое время в истории западной культуры (Античность, Средние века, частично Возрождение) будущее человека преимущественно рассматривалось будто бы с позиции божественного. И в целом человек ощущал себя больше объектом божественного замысла, нежели активным субъектом в своей судьбе. Альтернативная точка зрения человека на самого себя стала возможна в Новое время. Конечно же, гуманизм эпохи Возрождения стал одной из причин смены данной «оптики». Интересно, что в это время появляются фрески с прямой перспективой (к примеру, «Благовещение святой Анны» Джотто, «Вручение ключей апостолу Петру» Перуджино). Использовавшаяся ранее в живописи обратная перспектива психологически создает у зрителя ощущение, будто на него смотрит нечто большое и величественное, а он сам чувствует себя маленьким и незначительным. Прямая перспектива кажется более естественной для глаз, и здесь уже сам зритель вглядывается вглубь, превращая картину в объект своего взора.
Философ Нового времени Дэвид Юм впервые задается вопросом: если все предопределено, в том числе и будущее поведение человека, то несем ли мы ответственность за последствия своих поступков? Д. Юм считал, что моральная ответственность человека связана с его свободой воли. С одной стороны, мыслитель не придерживается идеи деизма и божественного замысла о судьбе человека, но в то же время, с другой стороны, считает, что характер человека может определить его поступки (Юм, 1996: 121).
Если Д. Юм, как скептик, сомневался в возможности доказательства существования Бога и, следовательно, существования Божественного предопределения, то немецкий философ Фридрих Ницше призывал отказаться от Бога как от пройденного этапа, идеи, объективно не отражающей действительность и природу человека и лишь сковывающей его. В работе Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» описывается столкновение двухтысячелетнего дракона, каждая золотая чешуйка которого твердила: «Ты должен!» (аллегория образа христианства), и льва, который провозглашал: «Я хочу!» (олицетворение воли сверхчеловека) (Ницше, 1994: 48). Будущее сложно предсказать, поскольку сама жизнь не поддается рациональным объяснениям, а человек склонен действовать под влиянием иррациональных импульсов, подсознательных стремлений и воли к власти.
Другой представитель направления «философия жизни», немецкий философ-социолог Г. Зиммель, подвергал более глубокому анализу жизнь и судьбу человека. Он считал, что будущее и, следовательно, судьба могут неожиданно поменять свое направление под воздействием внешних обстоятельств или внутренних интенций человека. Событие, которое способно повлиять на судьбу, может произойти случайно, поэтому будущее сложно предсказать. Сама возможность изменения своей жизни в будущем отличает человека от Бога и животных, которые не обладают судьбой (Зиммель, 1996: 192).
Несколько десятилетий спустя уже французский философ-экзистенциалист Ж.-П. Сартр передал судьбу и будущее человека в его собственные руки. Как атеист, Ж.-П. Сартр не верит в божественную предзаданность сущности человека. Поскольку нет Бога, то человек свободен (обречен) выбирать, кем ему быть и как жить. Существование предшествует сущности. Человек – это проект будущего, он волен менять его согласно своим устремлениям, и только смерть может оборвать это движение (Сартр, 1990). Так, главная трагедия героев пьесы Ж.-П. Сартра «За закрытыми дверями» состоит в том, что они на самом деле уже мертвы и не могут что-то изменить. Это их персональный «ад».
В 80-х гг. ХХ в. спор между сторонниками предопределенности и неопределенности будущего человека получил свое развитие. Благодаря исследованиям психики и мозга нейрофизиолога Б. Либета и экспериментам психолога Д. Вегнера возникли новые поводы для активных дискуссий по поводу свободы воли человека и его моральной ответственности.
В настоящее время ученые и философы разделились на инкомпатибилистов и компатиби-листов. Инкомпатибилисты считают, что правомерной может быть лишь одна точка зрения: либо полный детерминизм (будущее предопределено, а человек ни на что не может повлиять), либо либертарианство (будущее полностью зависит от самого человека и его свободы воли). Компа-тибилисты же признают и детерминизм, и свободу воли человека.
«Предопределенность и неопределенность» будущего в культурах Востока . Эта часть статьи посвящена интерпретации восприятия будущего в культуре Китая, Индии и буддийской философии.
В китайской культуре «предопределенность и неопределенность» будущего человека связана с философской категорией «мин» (иногда встречается как «минь»). Условно «мин» (кит. 命运 ,
“ming”) можно перевести как «судьба». Среди других значений: жизнь, приказ, повеление, мандат. «Мин» сочетает в себе понятия «жизненное предопределение» и «предопределенная жизнь»1.
Данное понятие появляется в древнекитайских письменных памятниках «Ши цзин» («Канон стихов» или «Книга песен») и «Шу цзин» (Книга документов). В конфуцианстве «мин» истолковывается как судьба, предписание, данное небом («тянь») о жизни и смерти. «Тянь мин» или «небесный мандат» воспринималось как божественное указание высшего руководящего органа – Небес, которое было адресовано правителю или «сыну Неба».
Помимо понятия «тянь» (небо), «мин» соотносится с понятием индивидуальной природы человека («син») (Степин и др., 2001: 416). Так, человек реализует свое предопределение (предназначение) на уровне Вселенной, государства и общества (Конфуцианский трактат «Чжун-Юн»…, 2003). Нужно отметить, что семантическое поле значений «мин» несколько отличается от строгого фатализма, присущего древнегреческой культуре, поскольку допускается некоторая свобода возможностей. Во-первых, предопределение можно изменить, а во-вторых, можно уклониться от «мин».
Идея «пересмотра» концепции «божественного предопределения» возникла еще в «Книге песен», где было введено понятие «мин вэй синь» – возможность изменения или переосмысления божественной воли. Поэтому так важно было знать свое предназначение. Последователи Конфуция утверждали, что благородный муж должен стремиться к познанию своего предназначения ввиду того, что именно так человек может по-настоящему постичь и себя (свою природу), и «Небо», в отличие от сторонников философской школы моизма, считавших, что подобное знание бессмысленно и может лишь помешать человеку (Мо-цзы…, 1972: 197).
В контексте другой значимой философской школы Древнего Китая, а именно даосизма, концепция «мин» была выражена в довольно противоречивой форме. С одной стороны, последователи Лао-цзы верили, что мир изначально совершенен и любая попытка вмешательства в естественный порядок вещей может повлечь лишь несчастья и неудачи. «Мин» в этом ключе понимали как предопределенную судьбу. Характер, предназначение и будущее объясняли и предсказывали по внешнему облику человека (физиогномика). Индивидуальное будущее имело отношение к коллективному, семейному «мин» (в зависимости от фамильных черт внешности) (Bokenkamp, 2005: 152–153). Таким образом, рождение в какой-либо конкретной семье, клане, роде определяло дальнейшую жизнь человека.
С другой стороны, некоторые даосы считали, что «мин» необходимо совершенствовать через «внутреннюю алхимию» тела. Существовало убеждение, что посредством особых телесных и духовных практик, а также магических эликсиров человек мог достичь бессмертия, становясь полноправным властителем своего «мин».
В рамках индийской культуры вопрос предопределенности будущего человека связан с понятием кармы. Карма представляет собой универсальный закон, который выражается в корреляции действий индивида (в том числе речевых и ментальных) на его дальнейшую жизнь и характер будущего рождения. Доктрина кармы неразрывно связана и с доктриной реинкарнации, и с законом дхармы2.
А.К. Рамануджан и Ч. Кейс предложили точку зрения, согласно которой теория реинкарнации базируется на моральной природе предыдущих жизней человека. Данная теория включает в себя три важных аспекта. Это причинно-следственная связь: наши действия в текущей жизни имеют причины в предыдущих жизнях; этические принципы: наши текущие действия должны быть ориентированы на будущее и события после смерти; реинкарнация: душа переживает множество жизней, и каждая из них служит для нашего духовного развития (Karma and Rebirth in Classical Indian Tradition…, 1980: 9).
Концепция реинкарнации базируется на постулате о личной моральной ответственности и принципе морального воздаяния. Текущее воплощение человека определяется его действиями в прошлых жизнях, а поступки в текущей жизни оказывают влияние на будущее и определяют характер последующих воплощений после смерти. Моральные принципы, формирующиеся в процессе реинкарнации, лежат в основе поведения индивида. Человек несёт ответственность не только за свою прошлую карму, но и имеет возможность изменить свою судьбу (будущее), трансформируя свои действия.
При этом самое важное, как полагали мудрецы Упанишад и последователи джайнизма, человек может сознательно совершать поступки, поскольку обладает свободой воли, а его карма проистекает из свободы выбора, что исключает какой-либо фатализм (Радхакришнан, 1993: 111). Но в то же время представители некоторых ответвлений древнеиндийской философии (теисты) верили, что судьба человека, как всей Вселенной, зависит только от воли Бога (Ишвара) (Karma and Rebirth in Classical Indian Tradition…, 1980: 250–251).
В рамках буддийской философии сложилось несколько иное представление о карме. Прежде всего, следует отметить, что в буддизме, в отличие от индуизма, отсутствует концепция атмана – неизменной духовной сущности, проходящей цепь перерождений. Саму личность можно считать условной категорией, поскольку она представляет собой лишь наименование для совокупности дхарм («пять скандх») – систематизированного объединения элементов психики и жизненного опыта индивида (Ермакова, Островская, 2004: 25).
После смерти соединение дхарм рассеивается и перемешивается с другими дхармами. В таком случае, если человек избежит трех плохих перерождений и вновь родится в мире людей, будет ли это следующее перерождение стопроцентно тем же самым человеком с определенной кармой? К тому же последователи буддизма считали, что на будущее человека влияет не только карма, но различные другие (в том числе и случайные) обстоятельства. «Плоды» прошлой кармы проявляются не сразу, для этого требуются благоприятные «для прорастания» кармических отпечатков условия («випака») (Васубандху, 1998: 438).
Также американский буддолог А. Берзин отмечает, что в буддийском понимании карма не является судьбой или предопределенностью и не отождествляется напрямую с действием, а, скорее, соотносится с импульсом или побуждением к действию (Берзин, Чодрон Тубтен, 1999). Поэтому для практикующих буддизм чрезвычайно необходимо понимание мотиваций своих поступков. Действия, совершённые с благим намерением и мотивацией («четана»), закладывают в сознании семена благой кармы.
В буддийской сотериологии подчеркивается важность осознания причинно-следственной связи страдания всех живых существ, выраженной в постулатах четырех благородных истин и «взаимозависимом возникновении». Поэтому именно деяния с правильной мотивацией через постоянную работу с сознанием могут не только помочь избавиться от негативных отпечатков кармы, но и стать фундаментом для достижения человеком состояния Будды («просветление») и освобождения из бесконечного круговорота перерождений в сансаре.
Вывод . Таким образом, сравнивая представления о будущем человека в западной и восточной культурах, мы можем вывести определенные отличия. В обеих культурах сложились концепции предопределенности (божественное предопределение, предзаданная судьба, фатум, «мин», карма) и неопределенности будущего человека (будущее человека неопределенно и зависит от самого человека). Однако в истории культуры Запада прослеживается четкое противопоставление двух «полюсов» данной дихотомии, где необходимо выбрать только одну точку зрения. В то же время в культурах Востока преобладает более холистический подход: признается наличие предопределенности будущего, но при этом человек может повлиять на свою судьбу и изменить ее.
Список литературы Предопределенность и неопределенность будущего в западной и восточной культурах
- Августин Блаженный. Антипелагианские сочинения позднего периода. М., 2008. 478 с.
- Аристотель. Сочинения: в 4 т. М., 1978. Т. 2. 687 с.
- Аристотель. Никомахова этика. Москва; Берлин, 2020. 222 с.
- Берзин А.Г., Чодрон Т. Буддизм и наука. Сингапур, 1999. 325 с.
- Бутаков П.А. Морское сражение и открытое будущее // Сибирский философский журнал. 2016. Т. 14, № 3. С. 273–282.
- Васубандху. Энциклопедия Абхидхармы (Абхидхармакоша). Т. 1. Раздел I: Учение о классах элементов. Раздел II: Учение о факторах доминирования в психике / пер. с санскрита. М., 1998. 670 с.
- Волкова Н.П. Бог-ум в философской теологии Платона, Аристотеля и Плотина // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение. 2017. № 73. С. 95–105. https://doi.org/10.15382/sturI201773.95-105.
- Ермакова Т.В., Островская Е.П. Классический буддизм. СПб., 2004. 256 с.
- Зиммель Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М., 1996. 607 с.
- Конфуцианский трактат «Чжун юн»: переводы и исследования / сост. А.Е. Лукьянов; отв. ред. М.Л. Титаренко. М., 2003. 247 с.
- Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983. 535 с.
- Моцзы // Древнекитайская философия. Собрание текстов: в 2 т. / сост. Ян Хин-Шун. M., 1972. Т. 1. С. 175–200.
- Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 1994. 512 с.
- Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 3. Ч. 1. / под общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса; ред. части 1 тома 3 В.Ф. Асмус; пер. с древнегреческого. СПб., 2007. 752 с.
- Платон. Законы; Послезаконие; Письма / вступ. ст. Я.А. Слинин. СПб., 2014. 519 с.
- Платон. Государство. М., 2015. 398 с.
- Радхакришнан С. Индийская философия: в 2 т. М., 1993. Т. 1. 328 с.
- Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М., 1990. С. 319–344.
- Универсалии восточных культур: монография / В.С. Степин [и др.]; отв. ред. М.С. Степанянц. М., 2001. 431 с.
- Эпиктет. В чем наше благо? СПб., 2023. 192 с.
- Юм Д. Сочинения: в 2 т. М., 1996. Т. 2. 799 с.
- Bias towards the future / P. Greene [et al.] // Philosophy Compass. 2022. Vol. 17, no. 8. Article e12859. https://doi.org/10.1111/phc3.12859.
- Bokenkamp S.R. Simple Twist of Fate: The Daosist Body and Its Ming // The Magnitude of Ming: Command, Allotment, and Fate in Chinese culture / ed. by C. Lupke. Honolulu, 2005. 392 p. P. 151–168.
- Karma and Rebirth in Classical Indian Tradition / ed. by W.D. O’Flaherty. Berkeley, 1980. 342 p.