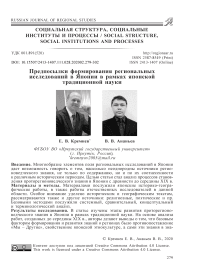Предпосылки формирования региональных исследований в Японии в рамках японской традиционной науки
Автор: Кремнев Евгений Владимирович, Ананьев Владимир Валерьевич
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Социальная структура, социальные институты и процессы
Статья в выпуске: 2 (111) т.28, 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение. Многообразие элементов поля региональных исследований в Японии дает возможность говорить о том, насколько неоднородны источники регионоведческого знания, не только по содержанию, но и по их соотнесенности к различным историческим периодам. Целью статьи стал анализ процессов становления проторегионоведческого знания в Японии с древности до середины XIX в. Материалы и методы. Материалами послужили японские историко-географические работы, в также работы отечественных исследователей в данной области. Особое внимание уделено историческим и географическим текстам, рассматриваются также и другие источники: религиозные, поэтические и пр. Базовыми методами послужили системный, сравнительный, концептуальный и терминологический анализ. Результаты исследования. В статье изучены этапы развития проторегионо-ведческого знания в Японии в рамках традиционной науки. На основе анализа работ, созданных до середины XIX в., авторы делают выводы о том, что базовым фактором формирования и развития знаний о регионах было противопоставление «Мы - Другие», свойственное японской этнокультуре, а сами эти знания в значительной степени отличаются японоцентризмом. Раскрывается роль нескольких школ традиционной науки: кокугаку (школа национальных наук), рангаку/ёгаку (голландоведение/европоведение) и кангаку (школа китайских наук), а также роль их культурно-идеологического противоборства в стимулировании развития проторегионоведческого знания. Обсуждение и заключение. В статье представлены результаты начального этапа комплексного исследования, в ходе которого будут изучены история развития японского регионоведческого знания и методология региональных исследований Японии. Результаты работы могут быть полезны исследователям и специалистам в области истории регионального развития различных стран и регионов.
Наука о регионах, региональные исследования в японии, регионоведение, региональная наука, японская традиционная наука, регионология, трансдисциплинарная регионология, кокугаку, рангаку/ёгаку, кангаку
Короткий адрес: https://sciup.org/147222847
IDR: 147222847 | УДК: 001.891(520) | DOI: 10.15507/2413-1407.111.028.202002.279-302
Текст научной статьи Предпосылки формирования региональных исследований в Японии в рамках японской традиционной науки
Funding . The study was carried out with the financial support from the Russian Foundation for Basic Research as part of the scientific project No. 19-011-00040 “History and Methodology of the Asia-Pacific Regional Studies in the Context of Modern Transdisciplinary Regionology.”
Введение. Формирование современной научной парадигмы в Японии начиналось со второй половины XIX в., после окончания периода самоизоляции. Главную роль в этом процессе играли японцы, побывавшие за границей в качестве стажеров, и приглашенные иностранные преподаватели. Методология собственно региональных исследований вырабатывалась в XX в. под влиянием, в первую очередь, США и стран Западной Европы. Однако несмотря на такую явную ориентацию на Запад, нельзя игнорировать наличие длительной собственно японской традиции изучения регионов (в разном понимании этого термина), которая не могла не оказать влияния на деятелей новой науки. Многие из них изначально прошли обучение либо в конфуцианских школах, либо вышли из рядов голландоведов. Изучение процессов становления проторегионоведческого знания в Японии с древности до середины XIX в. – цель настоящей статьи.
Обзор литературы. Разнообразие составляющих поля региональных исследований ( 地域研究 ) в Японии обусловливает и неоднородность источников регионоведческого знания в плане их состава и истории. Так, авторы доклада «Перспективы региональных исследований в Японии» в качестве истоков area studies ( エリア・スタディーズ , регионоведения) на Западе называют колониалистику и востоковедение, а также исследования с региональной проблематикой, которые начались в США после Первой мировой войны и переросли в area studies после Второй мировой войны [1]. С другой стороны, гуманитарно-экономическая география ( 人文・経 済地理学 ), которую японские ученые рассматривают в качестве одной из отраслей современных региональных исследований, берет начало в географии, корни которой зародились еще в Древней Греции, хотя, несомненно, эволюция в науку о регионах различных масштабов и о том, как природа изменяется под воздействием человека, происходила в XIX в. Наличие такого рода разнообразных корней определило региональные исследования как комплексную междисциплинарную науку [2].
В отечественной литературе проторегионоведческие тексты в их разнообразии рассматриваются в работах М. В. Грачева (исследования истории древней Японии, трудов эпохи Хэйан)1, О. В. Новаковой (изучение влияния европейских ученых и миссионеров на развитие стран Восточной и Юго-Восточной Азии и эволюцию их научных трудов) [3], А. А. Новиковой (в фокусе исследований – труды Нисикава Дзёкэн) [4], К. А. Попова (перевод и комментарии текстов «Фудоки», имеющих важное географическое и регионоведческое значение)2, Д. А. Суровня (исследование первых исторических сочинений)3 и др.
Важными для изучения цивилизационных подходов к осмыслению понятий пространства и территории японцами являются труды Е. В. Ве-рисоцкой (исследование исторической мысли Японии в контексте теории цивилизаций) [5], М. В. Воробьева (изучение связи этноса, общества, культуры и окружающего мира в Японии III–VII вв.)4, М. П. Герасимовой (анализ особенностей традиционного сознания японцев)5, А. Н. Мещерякова (осмысление японских представлений о своей среде обитания, пространстве и времени, национальной самоидентификации в рамках цивилизационной модели Японии, а также многочисленные комментированные переводы японских исторических, географических, культурных, религиозных и других текстов)6, Е. К. Симоновой-Гудзенко
(изучение представлений о географическом пространстве архипелага в письменной культуре древней Японии)7 [6] и др.
Среди западных ученых, изучавших древнеяпонские тексты, следует отметить Дж. Р. Бентли (проблемы японской историографии) [7], Дж. С. Браунли (изучение японской политической мысли на основе исторических текстов) [8], Э. А. Крэнстона (изучение поэтического жанра вака ( 和歌 )) [9], Дж. Л. Пирсона-мл. (перевод и комментарии антологии японской поэзии «Манъёсю»)8, Р. Старрса (исследование древнеяпонского текста «Кодзики») [10], Д. Л. Филиппи (перевод и комментарии исторических, религиозных и литературных текстов, в частности, текста «Кодзики»)9 и др.
Вместе с тем, несмотря на значительный интерес к подходам к изучению регионов в древнеяпонской литературе, нами не был обнаружен ее системный анализ на предмет вычленения проторегионоведческого знания.
Материалы и методы. В качестве материалов исследования авторами использованы проторегионоведческие тексты, созданные в Японии до середины XIX в. и работы ученых, посвященные изучению таких текстов. Особое внимание уделено трактатам в области истории и географии, привлекались и работы другой тематики: религиозные, поэтические и др. Следует сделать оговорку, что труды японских мыслителей и ученых, которые мы рассматриваем в качестве предшествующих регионоведческим, создавались в рамках восточной научной традиции; цели, ставившиеся их авторами, отличались от целей современных регионоведов. Однако результаты, зафиксированные в хрониках либо трактатах, во многом аналогичны современным, отражаемым в работах по регионоведению с поправкой на разницу в доминирующем дискурсе эпохи. Это позволяет нам рассматривать их в качестве проторегионоведческих.
Для изучения текстов и их влияния на современное регионоведческое знание нами были использованы такие методы, как системный анализ (применялся для реконструкции системы проторегионоведческого знания Японии, анализа ее элементов), сравнительный анализ (в работе сравниваются этапы развития японской традиционной науки с точки зрения ее фокуса на исследовании внутренних регионов Японии и внешних территорий, а также производится сравнение подходов в таких школах,
- как кокугаку , рангаку / ёгаку и кангаку ), концептуальный анализ (предлагаются и обосновываются регионоведческие подходы к концепции «Мы – Другие», отражающей японское этносознание, а также с точки зрения этапов развития проторегионоведческого знания уточняются концепции, отражающие идентификацию японцами собственной территории).
Результаты исследования. Формирование первоначальных знаний о регионах и их культуре неотъемлемо от процессов формирования этноса, общества и государства, которое в Японии тесно связано с культурой яёй и ее носителями. Однако сама специфика регионов и в принципе их противопоставленность определяются еще раньше, в период дзёмон (14 тыс. л. до н. э. – 300 л. до н. э.). Разница между областями Японского архипелага проявляется не только в образе жизни их обитателей, обусловленном преобладающим способом хозяйствования, но и на внеутилитарном уровне. Историки делят территорию архипелага на два культурных ареала: юго-западный и северо-восточный (в японской географической традиции – «западная Япония» и «восточная Япония» соответственно)10.
Период яёй (III в. до н. э. – III в. н. э.) характеризуется сложным взаимодействием различных этнических групп и культур на территории архипелага, которое в конце концов (уже в более поздние периоды) привело к появлению японского этноса. В качестве привнесенного извне исследователи выделяют элементы аустронезийской культуры, культуры донсон эпохи бронзы (Южный Китай и Северный Вьетнам), племен юэ (Южный Китай) и Восточно-Китайского побережья, индонезийских, северных и северо-западных народностей, пришедших на острова через Маньчжурию и Корейский полуостров11. В то же время сохранялись и многие исконные способы ведения хозяйства.
Часто одним из отличительных элементов и достижений яёй считают заливное рисосеяние, усвоение которого сделало рис главной сельскохозяйственной культурой Японии и во многом определило систему общественных отношений [11]. Однако влияние периода яёй на японскую культурно-историческую парадигму этим не ограничивается. А. Н. Мещеряков и М. В. Грачев выделяют пять параметров, по которым оно прослеживается:
-
1) существование хозяйственного комплекса, включающего три уклада: заливное рисосеяние, распространившееся в равнинных районах; морской промысел прибрежных областей; охота, собирательство, богарное земледелие, лесной промысел горных районов;
-
2) выделение трех хозяйственно-культурных зон: Хоккайдо, Хонсю + + север Кюсю + Сикоку, юг Кюсю + Окинава, среди которых вторая,
где и сформировалась культура яёй , развивалась быстрее. На Окинаву земледелие приходит в XII в., на севере Хонсю и особенно на Хоккайдо до начала XX в. продолжает существовать уклад каменного века;
-
3) формирование четырех базовых ареалов протояпонской культуры: север Кюсю, центр Хонсю (Кинки), равнина Канто и Идзумо;
-
4) оформление определенных общих норм отправления духовных обрядов;
-
5) восприятие материка (Китая и Кореи) как источника общественно и культурно значимой информации. Контакты с этими странами в той или иной форме происходят на протяжении всей истории Японии, причем наиболее важную роль в них играл обмен на информационном уровне, осуществлявшийся при помощи письменной коммуникации12.
Производство риса, с одной стороны, значительно улучшило жизненные условия, с другой – привело к социальному расслоению и появлению сильных родов, борьба которых завершилась образованием централизованного государства. Одно из первых письменных упоминаний о представителях культуры яёй содержится в китайском проторегионо-ведческом трактате – «Шань хай цзин» ( 山海 经 , «Каталоге гор и морей», цзюань XII, XIV, около III в. до н. э.)13. Китайцы того периода именуют носителей этой культуры вожэнь ( 倭人 , яп. вадзин , досл. «люди-карлики»). Формирование государства, сопоставимого с соседними Китаем и Кореей, происходит в IV–VI вв.
Появлению текстов, которые можно считать проторегионоведче-скими сочинениями, предшествовали исторические хроники. Ученые предполагают, что наиболее ранние сохранившиеся до наших дней источники, например, «Кодзики» ( 古事記 , «Записки о делах древности») и «Нихон-сёки» ( 日本書紀 , «Анналы Японии»), базируются на еще более древних, но не сохранившихся сегодня текстах V–VI вв., в частности, на упоминающихся в них «Кудзи» ( 旧辞 , «Древние сказания»), «Тэйки» ( 帝紀 , «Записи об императорах»), «Тэннōки» ( 天皇記 , «Записи о государях»), «Кокўки» ( 國記 , «Записи о стране»), «Хонки» ( 本記 , «Основные записи») и др.14.
Можно утверждать, что собственно изучение регионов Японии началось как минимум со времени образования централизованного государства (VII–VIII вв.). При рассмотрении проторегионоведческого знания этого периода нужно отметить две важные тенденции в его развитии, характерные для любой страны – это внутреннее регионоведение, т. е. изучение собственных регионов, и регионоведение внешнее, дающее знания о территориях за ее пределами. Второе направление имело в Японии определенные ограничения как в силу географического положения, так и из-за продолжительных периодов самоизоляции. Первое же, напротив, развивалось довольно активно, меняя свое содержание в зависимости от подходов к осмыслению японцами среды обитания. Несколько подходов к этому процессу выделяет А. Н. Мещеряков, анализируя их в связи с самоидентификацией Японии и японцев. Сложившийся способ идентификации, по его мнению, можно назвать «воображаемой географией» (invented geography), его результатом становится конструкт «земля Японии» в следующих ипостасях:
-
1) «большая и обильная страна» – с VII–VIII вв. по вторую половину периода Хэйан (794–1185 гг.);
-
2) «окраинная страна размером с просяное зернышко» – XII в. – конец XVI в.; такое определение связано с несостоятельностью централизованного государства (бунты, потеря авторитета) и укоренением в мировоззрении японцев буддийских догм и способов описания мира;
-
3) «солнечная страна-крепость» – с начала XVII в. (возникновение сёгуната Токугава) по середину XIX в.; это период самоизоляции и расцвет идеологии самодостаточности;
-
4) «от островной страны к материковой империи» – с середины XIX в. до середины XX в. В этот период Япония переживает комплекс неполноценности из-за отсталости от мировых держав, что выливается в националистские и милитаристские настроения, связанные с посягательством на расширение территорий за счет материковых земель;
-
5) «от островной страны к “стране-саду”» – с середины XX в. по настоящее время. На этом этапе Япония возвращается по итогам Второй мировой войны в свои прежние границы и основной идентификационной идеологемой становится уникальность Японии как страны, сформировавшейся в закрытом географическом пространстве, что выражается в «Нихондзинрон» ( 日本人論 , японизм), разновидности культурного национализма без агрессивной составляющей. На первое место в развитии территории выходят улучшение среды обитания15.
Эти подходы, имеющие привязку к периодам японской истории, были положены нами в основу периодизации развития предпосылок формирования регионоведческого знания в Японии. В нашей работе мы остановимся на первых трех этапах, поскольку к традиционной японской науке можно отнести только работы этого периода. С середины XIX в. Япония формирует иные, более вестернизированные, подходы к формированию научного поля, которые должны стать предметом отдельного исследования.
Первые результаты изучения регионов в период образования централизованного государства (VII–VIII вв.) на этапе самоидентификации Японии как «большой и обильной страны» (с VII–VIII вв. по вторую половину периода Хэйан (794–1185 гг.)) зафиксированы в древнейших письменных памятниках: «Нихон сёки» («Анналы Японии», 720 г.)16, «Фудоки» ( 風土記 , «Записи обычаев и земель», 733 г.)17, «Сёку нихонги» ( 続日本紀 , «Продолжение анналов Японии», 797 г.)18. Причинами такого изучения явился комплекс факторов: разнородность состава населения, анимистическая религия синто как способ мировосприятия, принятие китайских моделей пространства и организации государства.
Формирование централизованного государства (Ямато) началось в юго-западной части Японского архипелага, предположительно в долине Нара19. Расширение происходило в ходе подчинения племен-соседей, причем одни вливались в состав Ямато, а другие оставались в большей или меньшей степени «вовне». Так, Е. К. Симонова-Гудзенко отмечает, что различные группы имен божеств, относящихся к императорскому мифу, и сам его сюжет о «браке-споре двух главных божеств» отражают слияние двух культурных комплексов – Идзумо и Исэ [6]. Область Идзумо находится на западном побережье о-ва Хонсю, на территории современной префектуры Симанэ, Исэ – на восточном побережье, в префектуре Миэ.
Традиционная религия синто являлась мировоззренческой основой практически для всех видов деятельности человека. Синтоизм предполагает существование божеств – ками – разных рангов, от создателей Японии – Идзанаги и Идзанами, до духов отдельных предметов. Таким образом, «каждая географически обособленная местность имела своих собственных божеств… природных явлений и объектов, хозяйственной деятельности, “отвечающих” за земледелие, рыболовство, общее “природное спокойствие”, столь необходимое в условиях тайфунов, землетрясений и иных частых природных катаклизмов» [6]. Для обеспечения возможности магического взаимодействия с ками необходимо было знать, где какие божества обитают, их точные имена и функции. В то же время знание подконтрольной территории, особенностей ее рельефа и климата было необходимо и с сугубо практической точки зрения, поскольку экономическую основу жизни японцев составляли рисосеяние и рыболовство. Такие сведения были обобщены в «Фудоки».
Формирование централизованного государства происходило под сильным влиянием китайской культуры, хотя многие китайские модели трансформировались при усвоении их японцами20. Так, Японией была заимствована модель пространства, где в центре Поднебесной находится средоточие цивилизации, а по окраинам обитают варвары. Невозможность игнорировать превосходство Китая, а также соотнесение себя с Востоком (с позитивными коннотациями, в отличие от Китая) воспрепятствовали употреблению термина «срединное государство» по отношению к Японии, однако фактически она позиционировала себя именно как такой центр. Поскольку последний предполагал наличие варварской периферии, необходимо было ее определить: варварами считались племена хаято (жители юга о-ва Кюсю), эмиси (или эдзо , населявшие север о-ва Хонсю) и – с «некоторыми оговорками» – обитатели корейских государств Силла и Бохай21.
Построение и соблюдение подобной пространственной модели опять-таки требовали изучения территории, в первую очередь своей (благоприятной и окультуренной), и в меньшей степени – сопредельной (как скверной и малопригодной для обитания). В связи с этим как в «Фудоки» (историко-географическом описании древней Японии), так и в хрониках «Нихон сёки» (в части, описывающей правления исторических императоров) и «Сёку нихонги» фиксируются сведения о провинциях и уездах страны, в частности, об обнаружении в них полезных ископаемых, благоприятных или неблагоприятных событиях и действиях, необходимых для обеспечения благополучной жизни (как магического, так и материалистического характера).
Так, указ государыни Гэммэй от 713 г. о составлении исторических и географических описаний земель «Фудоки» гласит: «6-й год Вадо, 5-я луна, 2-й день. Приказано записать, выбрав хорошие знаки, все уезды и села во всех провинциях в Кинай и семи округах. А также приказано сделать тщательные записи относительно имеющихся в этих уездах серебра, меди, красителей, трав, деревьев, птиц, зверей, рыб и насекомых, а также записать сведения о качестве земель, происхождении названий гор, рек, долин и полей, положить на бумагу рассказываемые стариками древние предания и чудесные истории. Эти сведения подать наверх»22. В частности, в «Идзумо-фудоки» (出雲風土記, «Историческое и географическое описание провинции Идзумо») записано: «в описа- ние каждого уезда занесены сведения об административном делении, о происхождении названий уезда, сел и их географическом положении, о синтоистских храмах, о горах, реках, прудах, об островах, их флоре и фауне»23. Примечателен и сам термин «фудоки», толкуемый как «географо-этнографическое обследование отдельных районов» или, более подробно, как «местные хроники, в которых наряду с географией описывается культура, обычаи, местные достопримечательности, характерные продукты производства»24. Уже в этом краеведческом по своей сути тексте мы обнаруживаем неожиданную параллель с гуманитарно-экономической географией, включаемой сегодня в структуру региональных исследований Японии.
По мере расширения пространства, подконтрольного (хотя бы номинально) центральному правительству, собирались и сведения о новых областях. Они отражены в таких документах, как «Куни-но мияцуко хонги» ( 国造本紀 , «Описание управителей областей», IX в.) и «Энгисики» ( 延喜式 , «Установления годов Энги», 967 г.). Первый из них Е. К. Симонова-Гудзенко характеризует как «список имен и кратких родословных управителей областей, являвшихся их фактическими владетелями и жрецами местных ками», демонстрирующий «последовательность освоения пространства» архипелага государством, как вербальную географическую карту25. При этом определение внешних границ государства хотя и было важным, но, вероятно, отступало на второй план и в связи со спецификой географического положения Японии, и в связи с «закрытием от внешнего мира», характерным для периода составления «Куни-но мияцуко хонги» [6]. В «Энгисики» включены правила внутреннего распорядка для чиновников всех ведомств, списки штатов ведомств, провинций и уездов, собираемых налогов, протоколы придворных церемоний, годовых праздников, а также сведения о божествах и святилищах всех известных на то время 68 провинций и 590 уездов [6].
Среди важных сочинений, косвенно содержащих географическое знание, Е. К. Симонова-Гудзенко называет и песенную антологию «Манъёсю» (万葉集)26, предположительно составленную Отомо Якамоти, и буддийские предания «Нихон рёики» (日本霊異記, «Японские легенды о чудесах»)27, составленные и дополненные в конце VIII – начале IX в. Первый труд содержит «упоминания элементов рельефа (горы, реки, бухты, пещеры) и “творений рук человеческих” (плотины, усадьбы, дороги, мосты)… уточнения провинций, уездов в дзёси – преамбуле-комментарии к песне»28, что позволяет современным исследователям делать выводы о географии древней Японии29. Во втором произведении для каждой из легенд «место действия определяется в начале повествования. «Адрес» состоит из названий провинции – уезда – села или столицы с указанием конкретного района или дворца, расположенного в определенном ме-сте»30. Подобные сведения содержатся и в других сборниках преданий, а также в дневниковой литературе [12].
К одному из интересных жанров того времени, напрямую связанных с анализом сведений о регионах, относится икэн ( 意見 ) – тайные доклады императору (личные или групповые), в которых составители представляли свою точку зрения на решение задач, поставленных высочайшим лицом31. Одним из блестящих образцов такого рода текстов считаются «Икэн дзю:ни кадзё:» ( 意見十二箇条 , «Рекомендации в двенадцати пунктах»), составленные Миёси-но Киёюки в 914 г. На основе изучения жизни в регионах Японии он предлагает императору ряд мер по улучшению жизни в стране. Несмотря на то, что некоторые из рекомендаций построены на мистико-религиозных взглядах (например, раздел «Как избежать наводнений и засухи и добиться обильных урожаев»), значительное их число базируется на политических и социально-экономических идеях развития Японии и ее регионов: разделы «Нижайше прошу запретить роскошь», «Нижайше прошу издать государев указ по всем провинциям, чтобы наделяли подушными земельными участками согласно реальному количеству жителей», «Нижайше прошу для всех провинций установить фиксированное количество кандзякунин32», «Нижайше прошу повсеместно прекратить назначение на должности лучников и стражей порядка за плату» и др.
В период Хэйан (794–1185 гг.) происходит осознание японской культуры как самодостаточной, в результате чего интерес к соседним странам ослабевает до степени «замораживания» официальных связей. Постепенная утрата центральным правительством контроля над провинциями, снижение интереса аристократии к государственным делам и осуществлению такого контроля сказывается на объеме исследований географического характера, хотя составление хроник продолжается.
Следующий период, в который японцы осмысляли свою территорию как «окраинную страну размером с просяное зернышко» (XII в. – конец XVI в.), отражает буддийские представления о Японии и связан с ослаблением централизованного государства и общего пессимизма по поводу роли и места региона в мире. Заимствованные из Китая представления о собственной стране закреплялись в сознании японцев, и благодаря использовавшимся китайским географическим картам «в китайской картографии, вероятно, до 1530 г. господствовало изображение японского архипелага в виде небольшого овального острова, что символизировало принадлежность страны к варварской периферии и ее незначительность»33. Ситуация изменилась с введением в активное использование карт Гёги34 ( 行基図 , гё:гидзу), среди которых самые ранние упоминаются японскими летописями как изготовленные в IX в., однако известные сегодня из дошедших до наших дней датируются XIV в. Карты гораздо точнее изображали японский архипелаг и способствовали межрегиональному обмену знаниями, в частности, по модели карт Гёги начинают изготавливаться корейские и китайские карты.
Следующий период осмысления среды обитания через концепцию «Солнечной страны-крепости» (в терминологии А. Н. Мещерякова) может быть охарактеризован как сдержанно-интересующийся окружающим миром. Прибытие европейцев, сначала португальцев, а затем голландцев, обратило внимание японцев на окружающий мир, хотя ситуация создалась парадоксальная: с одной стороны, вскоре после установления власти Токугава сёгуната Токугава (1603–1868 гг.) въезд в страну и выезд из нее были запрещены как для иностранцев, так и для японцев, ограниченная торговля велась с Голландией и Китаем через порт Нагасаки; с другой – японцы узнали о существовании стран внешнего мира помимо Китая и Индии и начали получать сведения о них.
Е. К. Симонова-Гудзенко отмечает развитие географических жанров в это время, связанное с объединением страны, повлекшим установление мира, развитие сети дорог и сферы обслуживания путешественников. В частности, начинают составляться списки мэйсё ( 名所 ) – достопримечательностей провинций и путеводители для паломников, которые исследователь предлагает считать в определенной степени «развитием жанра фудоки и основой развивающегося по сей день краеведения»35.
В XVI–XVII вв. обмен географическими и картографическими знаниями с Европой идет благодаря миссионерам. Среди тех, кто в наибольшей
- степени повлиял на японскую картографию, исследователи называют Игнасиу Морейра, Гаспара Вилела, Джеронимо де Анджелиса и др. [3].
Одним из пионеров применения западного знания стал Нисикава Дзёкэн ( 西川如見 ). Он жил в Нагасаки, являлся переводчиком с голландского языка и стал автором нескольких трактатов по географии и астрономии, в которых одним из первых среди японцев описал картину мира, основанную не только на восточных, но и на западных данных [4]. Источниками для Нисикава послужили труды Маттео Риччи, Джулио Алле-ни и других иезуитов, работавших в Китае, а также сведения, полученные в устной форме от голландцев [4]. Считается также, что на географические предоставления Нисикава могли повлиять труды Кумадзава Бандзан ( 熊沢蕃山 ) [13]. В сочинениях Нисикава даются не только фактологические описания народов и стран, последние также группируются в соответствии с климатическими зонами, к которым они относятся. Климат, по мнению Нисикава, являлся основным фактором, определяющим характер народа.
Важнейшими у Нисикава считаются такие работы, как «Нихон суйдо ко:» ( 日本水土考 , «Рассуждения о водах и землях Японии»), «Суйдо кайбэн» ( 水土解弁 , «Разъяснение по поводу свойств вод и земель»), «Каи цу:сё: ко:» ( 華夷通商考 , «Рассуждения о торговле с Китаем и варварами»), «Дзо:хо каи цу:сё: ко:» ( 増補華夷通商考 , «Дополненные рассуждения о торговле с Китаем и варварами»), «Кайи бэндан» ( 怪 異辨断 , «Повествование об удивительных явлениях»), «Сидзю:никоку дзимбуцу дзусэцу» ( 四十二国人物図説 , «Иллюстрированное описание народов сорока двух стран»). Одной из наиболее значимых работ стала «Нихон суйдо ко:» [4], это подтверждается внесением данного труда в хронологическую таблицу важнейших научных трудов в ставшей классической «Истории науки в Японии», написанной в 1944 г. С. Ямамото36. Трактат характеризовался привычным для китайских проторегионовед-ческих работ уклоном – использованием внешнего регионоведения для решения внутренних задач: при описании других земель отстаивалось превосходство Японии. В работе на материале европейских источников с определенной степенью условности и неточности описаны устройство мира, сферическая форма Земли, полюса, материки, используются понятия «градус» ( 度 , до ) и «географическая широта» ( 経度 , кэйдо ), вводится идея широтной зональности и зависимости климата от нее, приведены две карты – восточного полушария и Японских островов, особо выделяется местоположение Японии как уникальное и благоприятное. В целом подходы в описании географии в работе восходят «одновременно к дальневосточной и европейской географической науке, а также, в меньшей степени, к буддийским представлениям» [4].
Нисикава Дзёкэн стремился доказать, что уничижительное позиционирование Японии как страны «маленькой» и никчемной, обычное для интеллектуалов XII–XVI вв., в корне неверно37. Ставя цель, прежде всего идеологическую, – избавление от «комплекса неполноценности», он пользовался для ее достижения географо-этнографическими средствами, сообщая сведения о многих странах, в том числе практически неизвестных европейских. Труды Нисикава пользовались известностью и оказывали влияние на других исследователей и после его смерти, а многие из его идей воспроизводились до конца периода Мэйдзи (1868–1912 гг.) [4]. На русский язык переведены два его трактата: «Поучение в радости» и «Мешок премудростей горожанину в помощь»38.
Проблема взаимовлияния внутреннего и внешнего знания породила в тот период научный конфликт, вылившийся в дифференциацию трех направлений науки: китаеведения, голландоведения (или школы европейских наук) и школы национальных наук (обращение к собственно японским способам познания мира). Для того чтобы подробнее рассмотреть вопрос эволюции этих трех школ, следует снова ненадолго вернуться в древность.
Несмотря на то что проникновение технологий и элементов культуры из Китая начинается как минимум в эпоху Яёй39, объектом специального рассмотрения «китайские знания» становятся позже, уже в период существования централизованного государства. Буддийская литература включала, помимо собственно религиозных текстов, комментарии к ним. Этот жанр был воспринят и в Японии, тем более что возникла необходимость в создании пояснений лингвистического характера относительно значений слов и иероглифов, которыми они записывались40. До прибытия в страну европейцев основным каналом поступления сведений о загранице оставались китайские книги, в связи с чем изучение всего иностранного именовалось «китайской наукой» ( 漢学 , кангаку ). Однако с получением доступа к европейским источникам начало формироваться голландоведение (яп. 蘭学 рангаку , также 洋学 ё:гаку «европоведение»41 (последний термин в российских работах не встречается)), поэтому противопоставляемая ему местная наука сначала получила название «японско-китайской» ( 皇漢学 , ко:кангаку ). Слово ко:кан ( 皇漢 ) создано
- в Японии, составляющие его иероглифы имеют значения «император» и «хань/китайский» соответственно, однако в данном случае первый из них означает «японский»; такое употребление связано с культом почитания императора [14]. Позже традиционная научная парадигма разделилась на две школы: «национальную» ( 国学 , кокугаку ), приверженцы которой критиковали китайское влияние, нанесшее вред японскому знанию, и «китайскую» в узком смысле.
«Китайская наука» на ранних этапах (V–VIII вв.) делала акцент на изучении китайских текстов: сначала литературных произведений, китайских сводов законов, которые стали образцом для аналогичных японских, трудов по воинскому искусству, позднее – буддийских текстов. Знание китайской, в частности конфуцианской, классики было обязательным для любого образованного человека вплоть до конца эпохи Эдо, однако именно в этот период в связи с противопоставлением научных направлений появляются «узкие специалисты», предшественники современных китаеведов. Основным содержанием их деятельности было изучение и комментирование трудов конфуцианцев, особенно учения Чжу Си ( 朱熹 ), китайского философа, чья доктрина превратилась в государственную идеологию Японии того периода [15]. Под влиянием Цинской «школы разысканий и доказательств» ( 考証学 , каочжэнсюэ ) такие ученые, как Ито Дзинсай ( 伊藤仁斎 ), анализировали классические тексты с целью выявления особенностей общественного устройства и культуры древнего Китая, составлявших исторический фон формирования конфуцианского мировоззрения. Кроме того, в Нагасаки, единственном портовом городе, через который проходила торговля с Китаем, шло изучение современного китайского языка ( байхуа ), в первую очередь, для подготовки переводчиков, что, однако, не имело признания со стороны специалистов по кангаку , которые занимались текстами, написанными на вэньяне [16]. Впоследствии после реставрации Мэйдзи, изучение «китайской науки» продолжилось на отделении японской и китайской литературы, позже – китаеведения ( 漢学科 , кангакука ), Токийского университета. В 1897 г. во втором университете страны – Киотском – были учреждены кафедры истории Востока, китайской философии и китайской литературы, позже такая же структура была принята и Токийским университетом. Таким образом, в изучении Китая произошел переход к западной системе.
Кангаку становится, как уже было указано выше, стимулом для развития «школы национальных наук» (国学, кокугаку). Она возникла как реакция на усиление в эпоху Эдо (1603–1868 гг.) учения Чжу Си и попытки формирования синто-конфуцианского синкретизма, объединяющего китайские и японские традиции. «Школа национальных наук» выступала против этих процессов, она критиковала китайскую фило- софию, а ее представители, обращаясь к традиционному наследию Японии, по мнению Е. В. Верисоцкой, «поднимали вопросы национального характера японцев, изучали систему взаимоотношений власти и общества, рассматривали социально-экономические аспекты развития государства, роль моральных принципов в историческом процессе, а также философские проблемы добра и зла, бога или богов и человека, жизни и смерти и многое другое» [5]. Основателем этой школы называют Када Адзумамаро (荷田春満), а наиболее известными деятелями – Камо Мабути (賀茂真淵), Мотоори Норинага (本居宣長), Хирата Ацутанэ (平田篤胤). В частности, Мотоори Норинага более трех десятков лет занимался толкованием «Кодзики», текста, датируемого 712 г. и посвященного сказаниям о жизни древнеяпонских богов и простых людей. В результате этой кропотливой работы появился новый фундаментальный труд – «Кодзикидэн» (古事記伝, «Комментарии к Кодзики») [17]. Результаты пропагандистской деятельности «школы национальных наук» были неоднозначны: ее идеи «в 40–50-е гг. XIX в. получили широкое распространение в народе… а после революции 1867–1868 гг. легли в основу так называемого государственного синто, провозглашенного государственной религией Японии. Вместе с тем учение этой школы использовалось реакционными кругами страны для пропаганды теории “японизма” и агрессивных войн» [5].
Наконец, как уже было указано выше, контакты с европейцами – практически исключительно голландцами – привели к возникновению в Японии специфической науки – голландоведения. Это стало возможным благодаря некоторым послаблениям на ввоз иностранной литературы по естественным наукам в период правления восьмого сегуна из дома Токугава (1716–1751 гг.). В Японии стали появляться книги западных авторов по медицине, зоологии, ботанике, астрономии, географии [5]. Первое переводное издание, которое принято считать началом голландоведения, – анатомическое пособие «Новый учебник анатомии» ( 解体 新書 , кайтай синсё , в оригинале – атлас немецкого врача И.-А. Кульма «Anatomische Tabellen» на голландском языке) – увидело свет в 1774 г.42. Значение голландоведения в истории японской медицины, пожалуй, наиболее очевидно в связи с тем, что информацию об анатомии и способах лечения болезней было проще использовать в условиях закрытости страны для всего иностранного, однако рангаку была дисциплиной комплексной и являлась главным источником информации (для правящих кругов) относительно стран, не входящих в дальневосточный регион. Яркими представителями этой школы стали Ямагата Банто ( 山片蟠桃 ) из Осака
^Об РЕГИОНОЛОГИЯ . Том 28, № 2, 2020 и Сиба Кокан ( 司馬江漢 ) из Эдо. В частности, Банто отстаивал важность объединения конфуцианской морали, восточных политических теорий и западных естественных наук для развития страны. Голландоведение к концу XVIII в. стало неотъемлемой частью социально-политической жизни Японии. Опыт европейских держав все более склоняет голландо-ведов к идеям экспансионизма и колонизации. Несмотря на внешнюю противоречивость «школы национальных наук» и голландоведения обе эти доктрины были проникнуты духом превосходства Японии над другими странами, хотя путь к достижению статуса великой державы и обосновывался различными путями [5].
XIX в. стал для Японии поворотной вехой в развитии: со второй его половины наступает следующий период осмысления среды обитания японцев – «от островной страны к материковой империи». Это время ознаменовано не только историческими переменами (к 90-м гг. XIX в. Япония добилась значительных успехов в экономике и образовании, а после присоединила новые земли за счет японско-китайской войны 1894 г.), но и новым осмыслением Японии как региона и территории. В частности, позитивное понимание получает термин «островная страна», ранее ассоциировавшийся с самоизоляцией. В 1894 г. в журнале «Друг народа» ( 国民之友 , «Кокумин-но томо») была опубликована резонансная статья «Характер островитян» известного историка Кумэ Кунитакэ ( 久米邦武 ). Он считал, что есть два типа островных «характеров», свойственных территориально изолированным регионам: первый склонен к самоизоляции и ксенофобии, что и приводит страны с таким характером к отсталости, второй тип, свойственный Японии, – это открытые и готовые к взаимодействию с миром страны, а самоизоляция в период сёгуната Токугава – это аномалия, связанная с конкретным периодом и людьми, но не японским национальным характером в целом43. С присоединением Кореи в 1910 г. «произошла полная смена пространственной парадигмы: место сетований по поводу замкнутого и крошечного островного пространства, отгороженного от мира водной преградой, занимает расширяющаяся территория империи»44, что отразилось на массе проторегионоведческих работ того времени, старавшихся «легитимизировать» этот новый статус региона.
По итогам Второй мировой войны начинается переход «от островной страны к “стране-саду”». В это время Япония заново переосмысливает свой островной статус, придавая ему особое значение и описывая как фактор формирования уникальной культуры. На первое место выходят этнологические исследования, рассказывающие о формировании и особен- ностях японского этноса. Последней на сегодня сменой региональной парадигмы стала концентрация внимания на создании наиболее благоприятной социальной и экологичной среды обитания. Такими мы застаем актуальные региональные исследования сегодня. Это лишь краткая характеристика двух завершающих этапов, поскольку, как уже указывалось выше, они должны стать предметом отдельного исследования.
Обсуждение и заключение. Анализ процессов формирования региональных исследований в рамках японской традиционной науки позволяет выделить базовые характеристики проторегионоведческого знания в Японии.
Во-первых, исследования, в некоторой своей части имеющие сходные задачи с современными регионоведческими, велись в Японии на всем протяжении существования государства, хотя и разной интенсивности. Основным мотивирующим фактором было противопоставление «Мы – Другие», проявлявшееся на разных уровнях. В период формирования и расширения государства противопоставлялись центр (средоточие цивилизации, потомки верховных божеств) и периферия – внутренняя (окраинные, слабо окультуренные провинции, последователи местных культов) и внешняя (варвары, не принадлежащие упорядоченному миру). В период, когда границы подконтрольной территории стабилизировались, но страна оказалась раздробленной на фактически независимые княжества, к «Другим» относилось все за пределами своей провинции. После встречи с представителями западных стран последние стали наиболее «Другими». Построение самоидентификации с помощью «воображаемой географии» представляет собой определение противоположной стороны этой оси, т. е. формирование образа «Мы». Определение этого «Мы» производилось при помощи историографических и географических методов, а именно составления хроник и описаний областей страны. Однако необходимо отметить, что такое деление в большей или меньшей степени условно, поскольку отражает западную научную парадигму, японские же исследователи рассматривали интересовавшие их вопросы комплексно, что в определенной степени является и характеристикой современных региональных исследований.
Во-вторых, из концепции «Мы – Другие» проистекает и тот факт, что проторегионоведение в Японии обладает явно выраженным японоцентризмом, это касается как внутреннего регионоведения, так и внешнего. Само по себе внешнее регионоведение не было достаточно развито, но и имеющиеся тексты часто служили либо обоснованию превосходства японского географического положения и образа жизни, либо усилению Японии путем заимствования достижений других стран.
В-третьих, несмотря на то, что в традиционной науке не было привычного нам сегодня разделения на научные дисциплины, а исследования
- тяготели к комплексности, в японской традиции выделилось три школы, которые представляли собственно регионоведческое знание – это кокугаку (школа национальных наук), рангаку / ёгаку (голландоведение/европове-дение) и кангаку (школа китайских наук). Более того, именно триада « кокугаку – рангаку / ёгаку – кангаку », части которой сосуществовали и находились в противоборстве, способствовала развитию регионоведения как важного направления японской науки. Указанный выше японоцентризм способствовал усилению школы национальных наук в противовес китаеведению, а также интенсификации заимствований западного знания и развития голландоведения/европоведения.
Дальнейшее развитие японской науки с середины XIX в. ознаменовалось сменой вектора на западноориентированные подходы, однако факторы, определившие традиционное проторегионоведение, сохраняли свое влияние еще довольно долгое время, а их отголоски можно увидеть и в современных региональных исследованиях. В частности, перед японскими регионоведами по-прежнему ставятся задачи преодоления, с одной стороны, культурной замкнутости Японии через изучение других регионов и их культр, с другой – концепции «западный = универсальный». Таким образом, современные японские региональные исследования, как и в свой доинституциональный период, ищут способы сбалансированного развития как на собственных позициях, так и с использованием западного опыта, а также выстраивают пути межкультурной коммуникации через познание других и транслирования им знаний о себе.
В данной работе представлены итоги первого этапа научного проекта, в результате которого описаны и проанализированы периоды формирования в Японии региональных исследований как области научного знания, систематизированы их методы и подходы. Практическая значимость материалов состоит в возможности их использования при изучении и преподавании истории развития регионов мира, а также для углубленного понимания принципов эволюции японского общества и его представлений о собственном региональном развитии и развитии иных регионов.
Список литературы Предпосылки формирования региональных исследований в Японии в рамках японской традиционной науки
- Тиики кэнкю: бунъя-но тэмбо: [Перспективы региональных исследований] // Нихон гакудзюцу кайги [Научный совет Японии]. - 2010. - Т. 4, вып. 5. -URL: http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-h-1-7.pdf (дата обращения: 15.02.2020).
- Сиба Ёсихиро. Тиики кэнкю:-то ситэ-но Нихон кэнкю: [Исследования Японии как региональные исследования] / Ёсихиро Сиба. - Текст : непосредственный // Тю:о: кэнкю. Дай-ни го: [Исследования Центральной Европы]. - 2016. - № 2.
- Новакова, О. В. Роль первых европейских ученых и христианских миссионеров в развитии современных знаний в странах Восточной и Юго-Восточной Азии на примере Индонезии, Японии и Вьетнама (XVI-XVII вв.) / О. В. Новакова. Е. К. Симонова-Гудзенко, М. Ю. Ульянов. - DOI 10.24866/1997-2857/2017-3/520 // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. -2017. - № 3. - С. 5-20. - URL: https://www.dvfu.ru/schools/school_of_humanities/ publication/magazine/ (дата обращения: 15.02.2020).
- Новикова. А. А. Синтез восточных и западных географических представлений в трактате «Нихон суйдо ко:» Нисикава Дзёкэн (1648-1724) / А. А. Новикова // Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение. - 2014. - № 3. - С. 30-43. - URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21991127 (дата обращения: 15.02.2020).
- Верисоцкая, Е. В. Некоторые вопросы теории цивилизаций в исторической мысли России и Японии XVIII в. / Е. В. Верисоцкая // Известия Восточного института. - 1996. - № 3. - С. 70-89. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=8818869 (дата обращения: 15.02.2020).
- Симонова-Гудзенко, Е. К. Топоним в политической культуре средневековой Японии / Е. К. Симонова-Гудзенко. - DOI 10.24411/2500-2872-2016-00013 // Японские исследования. - 2016. - № 2. - С. 26-42. - URL: http://japanjournal.ru/ images/js/2016/js_2016_2_26-42.pdf (дата обращения: 15.02.2020).
- Bently, J. R. The Birth and Flowering of Japanese Historiography: From Chronicles to Tales to Historical Interpretation / J. R. Bently. - DOI 10.1093/ oso/9780199236428.003.0004 // The Oxford History of Historical Writing / S. Foot, Ch. F. Robinson. - Oxford, 2012. - Vol. 2. - Pp. 58-79. - URL: https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780199236428.001.0001/oso-9780199236428-chapter-4 (дата обращения: 15.02.2020).
- Brownlee, J. S. Political Thought in Japanese Historical Writing: From Kojiki (712) to Tokushi Yoron (1712) / J. S. Brownlee. - DOI 10/2307/2057985. - Waterloo, 1991. - 174 p. - URL: https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/ oso/9780199236428.001.0001/oso-9780199236428-chapter-4 (дата обращения: 15.02.2020).
- Cranston, E. A. A Waka Anthology: Volume One: The Gem-Glistening Cup / E. A. Cranston. - Stanford, 1998. - 1016 p. - URL: http://www.harvard.com/ book/a_waka_anthology_-_volume_one_the_gem-glistening_cup/ (дата обращения: 15.02.2020).
- Starrs, R. The Kojiki as Japan's National Narrative / R. Starrs // Asian Futures, Asian Traditions / Edited by E. Palmer. - Folkestone, 2005. - 442 p. - URL: https://www.amazon.co.uk/Asian-Futures-Traditions-Edwina-Palmer/dp/1901903168 (дата обращения: 15.02.2020).
- Харада, Нобуо. Комэ-о эранда Нихон-но рэкиси [История Японии, выбравшей рис] / Нобуо Харада. - Токио: Бунгэй сюндзю:, 2007. - 262 с. - Текст : непосредственный.
- Андо:, Тэцуро:. Сэцува бунгаку-ни окэру бутай то найё:-но канрэнсэй -Хэйан дзидай-но мияко то соно сю:хэн-о тайсё:-ни [Связь между сценой и содержанием в литературе сэцува - На примере столицы и ее окрестностей эпохи Хэйан] / Тэцуро: Андо: // Дзимбун тири [Гуманитарная география]. - 2008. -Т. 60, № 1. - С. 41-54. - Текст : непосредственный.
- Фудзивара, Нобору. Кумадзава Бандзан то Нисикава Дзёкэн - суйдо (фу:до) кан-о тю:син-ни [Кумадзава Бандзан и Нисикава Дзёкэн: сравнительная характеристика географических представлений] / Нобору Фудзивара. - Текст : непосредственный // Кикан Нихон сисо: си [Ежеквартальный журнал по истории японской мысли]. - Токио, 1992. - Вып. 38. - С. 38-54.
- Маянаги, Макото. Родзин-но эссэй «Ко:кан игаку»-ни цуйтэ [Об эссе Люй Сюня «Восточная медицина»] / Макото Маянаги. - Текст : непосредственный // Нихон исигаку дзасси [Журнал истории медицины Японии]. - 2003. - Т. 49, № 1. - С. 40-41.
- Ямамото, Ёситака. Накамура Ранрин-но бунсё:гаку - дзю:хассэйки Нихон-ни окэру сюсигаку-но тэнкай [Текстология Накамура Ранрин - развитие джусианства в Японии 18 века] / Ёситака Ямамото. - Текст : непосредственный // Нихон сисо: сигаку [История мысли в Японии]. - Токио, 2015. -Вып. 47. - С. 126-143.
- Мураяма, Ёсихиро. Кангакуся-ва ика-ни икита ка : киндай Нихон-но кангаку [Как жили ученые-кангакуся: китайская наука Японии Нового времени] / Ёсихиро Мураяма. - Токио: Тайсю:кан сётэн, 1999. - 240 с. - Текст : непосредственный.
- Ко:носи Такамицу. Мотоори Норинага «Кодзикидэн»-о ёму 1 [Читая «Кодзикидэн» Мотоори Норинага 1] / Такамицу Ко:носи. - Токио: Ко:данся, 2010. - 226 с. - Текст : непосредственный.