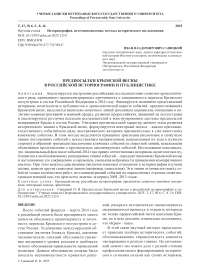Предпосылки Крымской весны в российской историографии и публицистике
Автор: Савицкий И.В.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Историография, источниковедение и методы исторического исследования
Статья в выпуске: 6 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Анализируется построение российскими исследователями сюжетно-хронологического ряда, призванного продемонстрировать причинность и завершенность перехода Крымского полуострова в состав Российской Федерации в 2014 году. Фиксируется изменение представлений историков, политологов и публицистов о хронологической широте событий, предшествовавших Крымской весне, выделяется несколько сюжетных линий (российско-украинские отношения в политико-административной и военной сферах, развитие пророссийских движений на полуострове) и анализируются различия подходов исследователей к конструированию системы предпосылок возвращения Крыма в состав России. Учитывая презентистский характер данного этапа развития исторического знания о Крымской весне, формулируется векторный подход – анализ причинноследственного событийного ряда, выстраиваемого авторами применительно к уже известному конечному событию. В этом методе выделяются принципы эригенции (включение в сюжетную линию посторонних событий с искусственным выпрямлением, направлением их хода в нужную сторону) и обратной эригенции (исключение ключевых событий из сюжетной линии), искажающие объективное представление о предпосылках анализируемых событий. Исследование показывает, что эмоциональный фон после событий 2014 года привел отечественных историков, политологов и публицистов к необоснованному расширению списка событий – «предшественников» Крымской весны и постепенному его сокращению со временем, уменьшая небрежности применения компаративного анализа. При этом межгосударственные (включая военные) отношения в историографии изучены полнее, нежели другие сюжетные линии (например, социальная). Эти линии отличаются между собой не только количеством работ, но и концентрацией событий на определенных отрезках сюжетнохронологической оси, что ярче всего заметно за период 2003–2013 годов.
Крымская весна, российская историография, презентизм, сюжетно-линейное построение, векторный подход, эригенция
Короткий адрес: https://sciup.org/147251796
IDR: 147251796 | УДК: 930:94(470+477.75)''2014'' | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1210
Текст научной статьи Предпосылки Крымской весны в российской историографии и публицистике
После событий февраля – марта 2014 года в российской печати было предпринято много попыток обосновать правомерность и логичность перехода Крымского полуострова в состав России. Усложнение международной обстановки (включая блокаду Крыма), давление экономических санкций обусловили снижение жизненного уровня россиян и требовали четкого обоснования правильности проводимой политики. Данные обоснования должны были показать несиюминутность принятых реше
ний, раскрыть историческую закономерность свершившегося процесса и отразить интересы не только пророссийской части населения Крыма, но и всех россиян, изначально полагавших, что «Крым – наш».
В этой связи научный интерес представляет принцип подбора исторических событий, обосновывающих справедливость концепта «возвращение в родную гавань». На сегодняшний момент мы имеем дело с разной степени профессиональным формированием исторического сознания силами как самих историков, так и представителей других научных специальностей (политологов и юристов). Успех этого дела зависит не только от частоты повторений одних и тех же фраз под разными фамилиями, но и логической непротиворечивости, актуальности приводимой информации и ее научной обоснованности.
Российскими авторами довольно быстро был составлен хронологический ряд событий, позволяющих проследить традиционные связи Крыма с Россией (Российской империей, СССР) и придающих событиям 2014 года масштабное ретроспективное значение. Результатом изучения (или простого описания) в таких исследованиях является линейный график (по Ю. М. Лотману – сюжетно-линейное построение [10: 341], в математике – числовая ось) с расположенными на нем датами основных событий, образующими последовательные отрезки различной длины. Их сокращение к концу линии кажется аксиомой, обусловленной большей актуальностью, очевидностью (но не всегда изученностью) значения ближних событий для современности. С одной стороны, сюжетно-линейное построение основано на обычном историко-генетическом подходе, являющемся основой едва ли не всех исторических исследований. С другой стороны, благодаря формализации изложения авторы линейных конструктов не всегда обосновывают включение конкретных событий в канву своего повествования. Проблема, таким образом, состоит в том, чтобы определить, какие именно события откладываются на линейке исторической памяти или навязываются ей конкретными исследователями и политиками, а что попадает в «область исключенного».
Цель данной публикации – анализ представлений российских авторов о логической связи между событиями последних столетий, обусловившими принятие Республики Крым и города-героя Севастополь в состав Российской Федерации в 2014 году. Необходимо выявить те критерии, которыми отечественные историки, юристы и политологи руководствуются при формировании модели Крымской весны и подборе предпосылок для ее успешного осуществления. Соответственно хронологическими рамками историографического исследования являются 2014–2024 годы, наполненные публикациями о Крымской весне. Между тем приближение важного события часто сопровождается различными формирующимися задолго до него восприятиями, поэтому указанные рамки будут проверяться автором на прочность.
Источниковую базу подобного исследования могут составлять лишь публикации, специально посвященные Крымской весне и потому имеющие своеобразный вектор, ориентированный на данное событие. Расположенные на одной сюжетной линии, выделяемые события являются смысловыми доминантами, стремящимися к общему концепту «родная гавань». Отсюда и предлагаемый векторный подход в историографическом исследовании, анализирующий работу историков с факторами, приведшими к уже известному, центральному событию. Иными словами, авторы анализируемых публикаций в своей логике исходят из итогов изучаемого процесса (в том числе предварительных), не подозревая о его альтернативности и факторах случайности. Подобный презентизм может трактоваться как профессиональная ошибка историков, однако это не мешает делать ее объектом изучения. С позиций «как было на самом деле» векторный подход анализирует прежде всего причинные связи объекта исследования в той реальности, которая создавалась авторами анализируемых произведений. В своей основе он реализует пре-зентистскую установку на структурирование исторических событий путем выстраивания их в событийный ряд, ориентированный на ситуацию современности. Такой подход изначально представляется нехарактерным, например, для обобщающих работ по истории Крыма, так как они призваны относительно равномерно осветить глобальный хронологический период (как правило, с постепенным замедлением и конкретизацией при приближении к современности). Однако игнорировать влияние современности на историка бессмысленно, поэтому искомый материал может оказаться в любых работах, опубликованных с 2014 года. С этой целью мы расширяем источниковую базу до публицистических работ, позволяющих анализировать отношение к теме не только со стороны профессиональной историографии, но и более значительной сферы исторического знания.
Казалось бы, актуальность подобной работы неочевидна: с точки зрения классического подхода приводимые публикации последних десяти лет проникнуты духом событий 2014 года, победным пафосом и в условиях ограниченной источниковой базы не могут претендовать на полноту исследования. Однако, аргументируя право России на очередное принятие Крыма в свой состав, анализируемые авторы (особенно публицистической направленности) формируют общественное отношение к событиям новейшего времени, выстраивают аксиологическую модель, сквозь которую не только оцениваются действия всех участников (акторов) Крымской весны, но и осуществляется отбор наиболее важных событий российской истории. Это является существенной частью политики исторической памяти на современном этапе.
***
Одной из первых крупных публикаций, посвященных Крымской весне, стала книга доктора юридических наук С. Н. Бабурина [2]. Основная часть издания представляет собой хрестоматию по истории российско-крымских отношений, сформированную на основе юридических актов. В сопроводительной статье автор раскритиковал правовой нигилизм 1954 года и сравнил «реализм настоящего» с «идеализмом прошедшей эпохи». Не останавливаясь на анализе представлений известного политика о реализме и идеализме, проанализируем предложенную им модель предшествовавших Крымской весне сюжетов.
Сформированная С. Н. Бабуриным путем подборки документов последовательность событий довольно подробна и включает в себя Переяславскую раду 1654 года, манифест Екатерины II 1783 года, Ясский договор 1791 года, петлюровский универсал Центральной рады 1917 года (не включивший Крым в состав Украинской Народной Республики), постановление ВЦИК и СНК РСФСР 1921 года о создании Автономной Крымской ССР, постановление Совмина СССР 1948 года о присвоении Севастополю статуса города республиканского подчинения, комплекс документов 1954 года о передаче Крымской области из РСФСР в состав Украинской ССР, документы Верховного Совета РСФСР и Государственной думы РФ 1992–1996 годов о признании Севастополя российским, договор 1997 года (признавший всю территорию Крымского полуострова за Украиной), а также документы 2014 года о принятии Республики Крым и города федерального значения Севастополя в состав Российской Федерации. Последние документы были опубликованы в начале книги и определили векторную линию сюжета.
Даже при беглом взгляде на предложенную последовательность возникают вопросы о логике подбора документов, из которой выбивается речь Богдана Хмельницкого в Переяславе. В 1654 году Крым не только не был частью Запорожской Сечи, но являлся одним из ее врагов, о чем не забыл упомянуть сам гетман [2: 115]. Для историка очевидно, что никакой связи между Переяславской радой и Крымской весной нет ни в географическом, ни в этнографическом или политическом отношениях. Переяславская рада нужна была автору для примера местной инициативы о присоединении к Российскому государству. Не найдя ее в средневековом Крыму, С. Н. Бабурин переместил вектор далее по территории будущей Украины, руководствуясь административно-территориальными реалиями второй половины ХХ века. Без этой ментальной «матрицы» 1954–2014 годов объединить между собой историю татарского Крыма XVII–XVIII веков и воевавшей с ним казачьей вольницы практически невозможно.
Таким образом, был получен конструкт, включающий похожее, но чужое звено в единую линию. Иными словами, перед нами искусственное выпрямление логики событий. Подобное явление в историографии предлагается назвать эригенцией (от лат. erigens – выпрямление). Эри-генция заключается во включении в сюжетную линию (под влиянием общественно-политических или личных мотивов) посторонних событий и искусственном логическом выпрямлении сюжетной оси. Результатом подобного явления становится имитация единого процесса на основе произвольно подобранных фактов (подлинность которых может не вызывать сомнений) с неминуемой дальнейшей фальсификацией результата исследования.
Данное явление в исторических (и не только) трудах представляется весьма распространенным. Справедливости ради необходимо отметить, что сам С. Н. Бабурин не выдвигал никакого тезиса о преемственности событий 1654 и 2014 годов, предоставив читателю сделать такой вывод самостоятельно. Более того, его замысел мог содержать несколько сюжетных линий, соединившихся лишь после распада СССР. Вторая, «украинская» линия как раз могла быть представлена документами 1654 и 1917 годов, однако для полноты восприятия их недостаточно.
Позиция С. Н. Бабурина, сформировавшаяся еще в 1990-х годах, после событий 2014 года быстро нашла последователей. Так, учитель истории и обществознания одной из школ Старого Оскола Н. А. Кокшаров поддержал его точку зрения о том, что «Украина в период 1954–2014 гг. осуществляла лишь административное управление» Крымом. Так как юридически значимые документы, включавшие Крым в состав Украины, якобы отсутствуют, то и суверенитет России над Крымом сохранялся [6: 20]. Известный военный публицист А. Б. Широкорад пошел еще дальше и высказал тезис о «двадцатитрехлетней оккупации Крыма» Украиной [19: 223], навеянный быстро укреплявшимся концептом «третья оборона Севастополя». Радикальность подобных тезисов обусловлена игнорированием некоторых событий того же сюжетного ряда, например российско-украинского договора 1997 года. Это рождает подкупающе прямой конструкт, созданный не с помощью включения в логическую цепь посторонних сюжетов, а, наоборот, исключением из него существенных звеньев. Такое явление предлагается характеризовать как обратную эригенцию, также приводящую исследователя к искаженным результатам.
Недооценка договора 1997 года является отнюдь не единичным явлением в российской историографии и характерна даже для обобщающих работ. Так, в опубликованной в 2015 году коллективной монографии «История Крыма» под эгидой Российского военно-исторического общества текст договора не упоминается – как и в книге С. Н. Бабурина, поверхностное внимание уделено лишь соглашениям от 28 мая 1997 года о Черноморском военном флоте (вполне очевидно, что договор о российско-украинской границе от 28 января 2003 года игнорируется вовсе) [5: 450]. Между тем известный историк права В. А. Томсинов указал на принципиальное значение третьей статьи договора 1997 года, предусматривавшей «право народов свободно распоряжаться своей судьбой» и, соответственно, подготовившей почву для референдума 2014 года [18: 128]. Став одним из немногих авторов, внимательно изучивших источник, В. А. Томсинов создал собственную оригинальную презентистскую концепцию о правомерности крымской сецессии с последующим включением полуострова в состав России, которая не была услышана ни политиками, ни другими историками.
Любопытно критическое отношение к договору 1997 года одного из оппонентов В. А. Том-синова – его коллеги по МГУ П. П. Кремнева. Отмечая нарушения в порядке ратификации договора как российской, так и украинской стороной, П. П. Кремнев в своей публикации 2004 года указал на возможность выполнения условий договора лишь до тех пор, пока одна из сторон не оспорила бы его действительность. С этих позиций значение договора о российско-украинской границе 2003 года оценивалось автором гораздо выше «хромающего на обе ноги» документа 1997 года [7: 212–213]1. Данная позиция была подтверждена П. П. Кремневым в 2015 году в рецензии на статью В. А. Томсинова [8: 144]. Ука- занные работы акцентируют самостоятельное значение договора 2003 года, практически игнорируемого другими авторами.
Со временем событийный ряд в отношениях между Крымом, Украиной и Россией продолжал уточняться и был более подробно разобран в коллективной монографии, созданной на основе кандидатской диссертации Д. М. Майборо-ды. Здесь и постановление Верховного Совета Крыма от 23 ноября 1994 года о денонсации Беловежских соглашений, и его борьба за сохранение крымской автономии в 1996 году, и признание российским Советом Федерации города Севастополя частью территории России в декабре 1996 года; даже проукраинская конституция Крыма 1998 года была поставлена в контекст ответного усиления оппозиционных настроений среди жителей полуострова. Эти же авторы напомнили об остром конфликте по поводу принадлежности о. Тузла в Керченском проливе, вылившемся в переброску на остров украинских пограничников и ввод в пролив украинских артиллерийских катеров [9: 115–124, 209, 213–214]. Таким образом, внешняя юридическая победа Киева не поставила точку в решении крымской проблемы.
Данная монография подготовила почву для дальнейшего сужения хронологического пространства предпосылок Крымской весны и показала необязательность обоснования пророссий-ской идентичности Крыма в дореволюционный период. Тем не менее глубокое ретроспективное обоснование уже вошло в традицию. Так, известный краснодарский историк и политолог А. В. Баранов в 2023 году провел сюжетный ряд от 1783 года с осторожным упоминанием результатов Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года [3: 15–16]. Ни один исследователь формально не стремился проводить сравнительный анализ событий XVIII–XXI веков, однако, включая исторические события в одно сюжетное повествование, подчиняя их единому вектору, авторы делают их сопоставимыми величинами. Вполне естественно, что приведение к общему знаменателю, например, событий 1774 и 2014 годов делает Крым прежде всего военным трофеем, чего и стремился избежать А. В. Баранов. Севастопольский историк С. Л. Данильченко ограничился хронологическими рамками 1918–1991 годов, по сути предложив краткий курс истории полуострова [4]2. Несмотря на то что автор не объяснил, каким образом многие указанные им события повлияли на пророссийскую идентичность Крыма, его позиция близка к мнению зарубеж- ных исследователей, признающих Крым российским. Так, сербские политологи начинают событийный ряд с объявления Севастополя городом республиканского подчинения (РСФСР) в 1948 году [14: 38]. Вынесение ими сравнительного (компаративного) анализа в заголовок работы звучит как призыв к чистоте используемого метода и предостережение российским авторам от необоснованного отнесения к предпосылкам Крымской весны событий дореволюционной истории.
Дальнейший после 2003 года десятилетний период не был отмечен значимыми событиями в российско-украинских отношениях. Первый зарубежный визит президента Украины В. А. Ющенко в Москву 9 мая 2005 года остался недооцененным с российской стороны, подписанные 21 апреля 2010 года «харьковские» соглашения либо продолжали предыдущие, либо остались на бумаге. Публицисты идут еще дальше и отмечают ряд кадровых ошибок российского руководства3. Это придает событийному ряду дискретность, обрывая его перед самой кульминацией и показывая, что данная сюжетная линия вряд ли является единственной.
Действительно, с точки зрения развития про-российских движений на полуострове данный период отнюдь не был «затишьем перед бурей». В том же 2003 году для реализации их политической и финансовой поддержки был создан Московский дом соотечественника, примеру которого последовали в Санкт-Петербурге и других городах [9: 151]. Особое значение приобрел севастопольский «антимайдан» 2004–2005 годов [1]. В августе 2005 года были образованы Народный фронт «Севастополь – Крым – Россия» под руководством В. В. Подъячего (осужденного в 2011 году «за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») и молодежная организация «Прорыв», попытавшаяся в январе следующего года физически «отсоединить» Крым от Украины, прорыв ров на узком участке перешейка Чонгар. Активно проявляло себя казачье движение, внешне специализируясь на охране историко-культурного наследия. В значительной степени под влиянием очередного проекта Концепции государственной этнонациональной политики Украины (2008) в 2009 году было создано общественно-политическое движение «Русское единство», в следующем году переросшее в политическую партию. Наконец, в 2012 году произошло объединение деятельности крупных пророссийских организаций, презентовавших себя как «Федерация рус- ских организаций Украины». Большинство этих сюжетов вошли в защищенную в 2018 году кандидатскую диссертацию севастопольского историка И. В. Островской и выделены ею в четвертый этап формирования русского и пророс-сийского движений на полуострове [13: 100, 120, 140–142, 157]; см. также [9: 148–149].
С одной стороны, включение в событийный ряд фактов, отбираемых по другому принципу, логически нарушает эффект эригенции. Однако событийный ряд вовсе не должен состоять из одной «единственно правильной линии». Нужно понимать, что без деятельности пророссийских организаций Крымская весна не состоялась бы. Внезапная активность со стороны Москвы, деятельность «вежливых людей» не имели бы смысла без поддержки со стороны местной пророссийской общественности. Недооценка данного фактора во многих современных публикациях помогает зарубежным авторам обосновывать точки зрения об «аннексии» и «оккупации» полуострова.
Для исключения логического противоречия в событийный ряд необходимо добавить даты, предшествующие громким акциям, например образование Крымского казачьего союза (1993), Русских общин Крыма (1993–1994), Севастополя (1995) и др. К сожалению, таким способом все же нельзя провести событийный ряд до Переяславской рады хотя бы потому, что позиция казаков в отношении Москвы после смерти Богдана Хмельницкого была весьма неоднозначной. Тем не менее, если в недалеком будущем историки соединят в единое явление Крымскую весну 2014 года с присоединением Новороссии 2022 года, подход С. Н. Бабурина актуализируется.
И. В. Островская – не единственный крымский историк, акцентирующий значение периода именно 2003–2013 годов. Так, А. Р. Никифоров в специальной статье начал описание предпосылок Крымской весны лишь с 2010 года – избрания В. Ф. Януковича президентом Украины и начала складывания «колониального» типа администрации в Крыму, что и породило недовольство населения и местных элит [11: 81–83]. Л. А. Ожегова, К. Ю. Сикач и А. Ю. Ожегов акцентировали внимание на влиянии цветных революций 2004–2009 годов на настроения крымчан [12]. В коллективной монографии по истории Севастополя авторы готовы рассматривать причины Русской весны лишь «на протяжении нескольких предшествовавших десятилетий» (динамика обострения российско-украинских отношений за этот период в книге приводится, но она не имеет векторной направленности) [15: 737]. Это показывает, что крымские исследователи не склонны расширять хронологические рамки причинных связей и подходят к объекту изучения более рационально. Перед нами классическое различие между «временем наблюдателя» и «временем наблюдаемого» [16: 91], то есть между точками зрения исследователей «с материка» и непосредственных свидетелей событий на полуострове.
После выхода статьи П. П. Кремнева 2004 года [7] в свете этнополитических проблем возникает вопрос о других возможностях нарушения хронологических рамок источников при векторном подходе. Например, можно ли использовать исследования, опубликованные до 2014 года, авторы которых предвидели дальнейший ход событий? Для историков перспективное прогнозирование означало бы выход за пределы своей профессиональной компетенции, но для политологов оказалось вполне приемлемым. Так, известный симферопольский этнополитолог Т. А. Се-нюшкина задолго до Евромайдана предсказала усиление межэтнической напряженности в Крыму и ее зависимость от характера и интенсивности геополитического соперничества [17: 378], то есть от ситуации в Киеве. Приводимый ею до 2007 года событийный ряд свидетельствует о недовольстве крымских татар тогдашней украинской властью, однако ничего не говорит об их стремлении к переходу в российское гражданство. Более того, из-за активных действий проукраински настроенных национальных группировок в феврале 2014 года российская историография почти не прослеживает пророссийскую позицию многих крымских татар, развивая миф об этническом противнике. Поэтому данная попытка выхода за пределы хронологических рамок историографических источников для построения стройного сюжетного ряда пока безрезультатна.
Учитывая популярность сюжетов о «вежливых людях» и значение Крыма как рассредоточенной базы военно-морского флота России, невозможно игнорировать сюжетные построения в данной плоскости. По понятным причинам первенствующее место в этой сфере занимают публицистические работы, в частности А. Б. Широкорада. Не вдаваясь в критику его выводов, в хронологический ряд военных предпосылок Крымской весны следует отнести «Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины» от 28 мая 1997 года и продлившие их «Харьковские соглашения» от 21 апреля 2010 года [19: 202–232]. При этом автор старался предельно точно характеризовать техническое состояние ВМФ РФ. Этот небольшой список спустя несколько лет расширил военный корреспондент В. Н. Баранец, посвятив главу своего «документально-художественного исследования» неподчинению адмирала И. В. Касатонова украинскому руководству в 1992 году4, без чего упомянутые соглашения бы не родились. Детали непосредственной подготовки к февральской операции 2014 года в российской историографии не освещались. Более того, при подробном сопоставлении военного и политического аспектов сюжетного ряда на момент 2021 года авторами коллективной монографии был сделан вывод о наличии потенциальных предпосылок для налаживания если не добрососедских, то взаимовыгодных отношений в экономической и других сферах деятельности [9: 232].
ВЫВОДЫ
Таким образом, сюжетно-линейное построение предпосылок принятия Республики Крым и города-героя Севастополь в состав Российской Федерации в российской историографии 2014–2023 годов развернуто на довольно широком хронологическом поле. При этом если первоначально под влиянием победных эмоций событийный ряд был начат с Переяславской рады 1654 года, то впоследствии он был сужен до начала Советского периода. Создается впечатление, что чем подробнее объект изучается в конечной фазе своего развития, тем меньше у исследователей потребности заглядывать далеко в глубь его генезиса. Первыми уловили эту динамику крымские исследователи. Тем не менее традиция обращения к сюжетам XVIII века при описании предпосылок Крымской весны сохранилась, что свидетельствует о все еще эмоциональном восприятии событий 2014 года в российской историографии.
Общей чертой изучения предпосылок Крымской весны является акцентирование негативных последствий передачи Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году. При этом историки сознают, что значение данного акта особенно велико именно с позиций сегодняшнего дня, так как в момент его осуществления события развивались в рамках одного государства и не были столь заметны.
Сложившаяся историографическая ситуация демонстрирует традиционно мощные позиции историков-«государственников», до хронологической «широты взглядов» которых пока не раз- вилась никакая другая из продемонстрированных в данной статье сюжетных линий. Несмотря на банальную зависимость полноты и качества их работ от времени публикации исследований, при абсолютизировании роли межгосударственных отношений «государственники» попадают в собственную ловушку, игнорируя кажущиеся неудобными факты (например, договор 2003 года). В «области исключенного» оказались и постановления Верховного Совета РФ о признании Крыма и Севастополя российскими в 1992–1993 годах5. Политические события 1991–1993 годов, нередко относимые к ситуации исторической травмы, неохотно упоминаются исследователями, из-за чего создается ощущение, что историки стремятся исключить ситуацию травмы из области истории.
Между тем хронологический ритм представленных сюжетных линий не одинаков. Если у исследователей межгосударственных отношений он затухает к 2003 году, то у исследователей общественных движений – наоборот, активизируется. Это противоречие на сегодняшний день можно объяснить оценкой исследователями Евромайдана (и соответственно спровоцированной им Крымской весны) как негативного результата по-своему активных и плодотворных российско-украинских отношений к 2014 году. Принцип «победителей не судят» в историографии работает так же, как и в других сферах деятельности, и омрачать почти бескровное принятие полуострова в состав России анализом предшествовавших ошибок победителя никому не интересно. Зато на этом фоне развитие пророссийских движений на полуострове служит предметом гордости и исследователей, и его жителей: оно демонстрирует базис, из которого выросли события 2014 года, и делает ненужными отсылки к истории Крымского ханства.
Безусловно, выстраивание событийных рядов не является исчерпывающим методом при анализе причинных связей изучаемых явлений. Например, каким образом на воображаемой цифровой оси следует отмечать полуостровное положение Крыма или низкий уровень подготовки украинских вооруженных сил, неспособных помешать крымской сецессии? Полноценный анализ причинно-следственных связей возможен лишь при комплексном использовании различных методов.
В конечном итоге выстраивание качественного событийного ряда будет зависеть от политических реалий и понятийного аппарата Крымской весны. Их варианты будут влиять и на хронологические рамки, и на восприятие событий, приведших к ее осуществлению. При этом влияние векторного подхода как именно презентистско-го структурирования данного исторического события начнет ослабевать по мере того, насколько непосредственные итоги Крымской весны будут встраиваться в какой-то новый «векторный» проект. Так или иначе можно быть уверенным, что исследователи как по собственной инициативе, так и под влиянием полидисциплинарного подхода (история, политология, юриспруденция, социология, этнология) будут продолжать поиски предпосылок Крымской весны среди событий конца ХХ – начала XXI века.