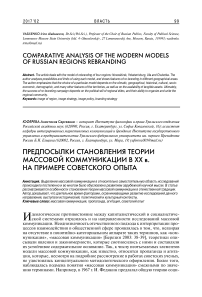Предпосылки становления теории массовой коммуникации в XX в. на примере советского опыта
Автор: Юферева Анастасия Сергеевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 2, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается развитие теории массовых коммуникаций в контексте советского опыта. Как видно из названия, в статье описаны основные подходы к пониманию этого явления. Ввиду плюрализма теории массовой коммуникации, необходимо исследовать вопрос о влиянии этого явления на сферу политики. Целью данного исследования является выяснение аспектов влияния исторического, политического и культурного контекста на формирование теории массовых коммуникаций в Советском Союзе. Для достижения этой цели автор изучает отечественные подходы, чтобы провести более подробный анализ этой темы. В статье подчеркивается, что объект и поддающиеся проверке результаты получают с помощью научных методов, таких как системный подход и сравнительные методы. В исследовании приведены несколько теоретических примеров, которые отражают основные аспекты создания теории массовой коммуникации в Советском Союзе.
Массовая коммуникация, пропаганда, агитация, советский опыт
Короткий адрес: https://sciup.org/170169367
IDR: 170169367
Текст научной статьи Предпосылки становления теории массовой коммуникации в XX в. на примере советского опыта
Идеологическое противостояние между капиталистической и социалистической системами отразилось и на направленности исследований массовой коммуникации. Неоднозначность отечественного подхода к интерпретации процессов взаимодействия в общественной сфере проявлялась в том, что, невзирая на отсутствие в понятийно-категориальном аппарате таких терминов, как «коммуникация», «массовая коммуникация» [Березин 2003: 38-39], теоретики описывали явления и закономерности, которые соотносились с ними и составляли их устойчивое содержательное основание. Так, к числу неотъемлемых элементов модели массовой коммуникации, как известно, относятся пропаганда и агитация, которые, несмотря на подробное рассмотрение в работах советских ученых, не удостоились концептуального методологического оформления. Более того, наблюдалась подмена понятия «массовая коммуникация» смежными по значению терминами. Например, в 1967 г. И. Федякин предлагал общую теорию соци- альной информации, развитие которой могло бы сконцентрировать внимание на таких вопросах, как сущность и принципы социальной информации, средства и методы социальной информации, особенности взаимоотношений информации, общественного мнения, пропаганды и пр. [Федякин 1967: 45].
В начале 1980-х гг. после серии пленумов ЦК КПСС (июнь 1983 г., февраль и апрель 1984 г.) были предприняты попытки пересмотреть идейно-теоретические направления в области общественных наук. Были определены магистральные направления развития научной работы, которая должна была соответствовать решению ключевых практических задач, стоящих перед страной. Эти события вызвали ряд положительных перемен и спровоцировали оживление мысли в академическом сообществе.
Последовало признание проблемы недостаточно проработанной терминологии. В.Ю. Борев в 1986 г. отмечал: «Такие понятия, как “средства массовой информации”, “средства массового воздействия”, “средства массовой коммуникации” зачастую употребляются в качестве синонимов. Некорректное употребление этих терминов вызвано не только причинами субъективного порядка, вкусами авторов, но и неразработанностью самой системы категорий теории средств социальной связи» [Борев, Коваленко 1986: 82-83]. Поэтому возникла необходимость вовлечения понятия «массовая коммуникация» в научный оборот как устойчивого теоретического конструкта. «Уже само название “средства массовой коммуникации” содержит в себе задачу, – пишет И. Кон в труде «Эстафета поколений» (1987 г.). – У нас их чаще называют средствами массовой информации. До тех пор, пока весь поток информации был преимущественно официальным и однонаправленным, …данный термин был совершенно точным. В последнее время стали уделять больше внимания механизму обратной связи – реакции публики на увиденное и услышанное» [Федякин 1988: 5]. Многие авторы того времени подчеркивали преимущества термина «массовая коммуникация», который раскрывался в широком перечне вопросов, затрагивал, помимо функций человеческого общения, осуществляемые социальные связи, взаимодействие между различными группами общества [Богомолова 1988: 22].
Сменилась содержательная сторона выходивших в свет научных трудов. Если ранее предметом исследования было исключительно деструктивное воздействие «буржуазных средств массовой коммуникации» [Багиров 1978; Шандра 1978; Власов 1985], то теперь появлялись работы, в которых признавался положительный опыт капиталистических стран и предпринимались попытки критического осмысления модели массовой коммуникации.
Следует отметить, что весомым обоснованием для написания большинства исследований о средствах массовой коммуникации как технологии буржуазного наследия вплоть до начала 1990-х гг. оставалась фиксация идейного противоборства социалистической и капиталистической систем, в особенности растущей изощренности империалистической пропаганды, что свидетельствовало о сохранении преемственности марксистко-ленинской идеологии в этот период. В центре внимания теоретиков оказывались конкретные идеологические инструменты, которыми располагал империализм, в частности электронные медиа.
Последние исследовал Н.С. Бирюков в работе «Буржуазное телевидение и его доктрины», в которой телевидение рассматривалось как инструмент внешнеполитической пропаганды [Бирюков 1977: 3]. Особенности развития электронных каналов коммуникаций в буржуазных странах были описаны преимущественно по итогам анализа профильной литературы, издаваемой в зарубежных странах. Очевидным выводом в духе марксизма-ленинизма стало разоблачительное заключение Н.С. Бирюкова об истинной природе буржуазных средств массовой информации, которые, несмотря на мнимый коммерческий характер, продолжали оставаться зависимой частью идеологического аппарата. «Монополистическая буржуазия, несмотря на стихию конкуренции, имевшую место в различных областях жизни капиталистических стран, как в отдельных случаях, так и в государственном масштабе стремится осуществить регулирование деятельности средств массовой информации» [Бирюков 1977: 39].
Показательны заключения Н.С. Бирюкова о сомнительной, а порой парадоксальной направленности суждений зарубежного специалиста в области масс-медиа У. Эмери, который имел неосторожность высказать мысль о возможности правительственных учреждений оказывать давление на средства массовой информации. Неприемлемыми для Н.С. Бирюкова становятся размышления Ли Левингера о том, что «деление коммуникаций на капиталистические и социалистические перестало быть удобным средством наблюдения и анализа национальных систем» [Бирюков 1977: 151]. «Растворение» границы объясняется заложенной в телевизионных организациях способности к независимому вещанию, даже несмотря на явную принадлежность технологии к тому или иному общественному порядку. В подобном утверждении Н.С. Бирюков видел не что иное, как попытку возвеличить коммерческую сторону электронных средств связи и показать несвойственные им признаки надклассовости и политической непредвзятости.
Впрочем, авторской критике были подвергнуты и другие аспекты представлений зарубежных ученых о капиталистической системе массовой информации, начиная с парадигмы Г. Лассуэлла, использование которой призвано «нивелировать» идеологическую подоплеку адресованных населению сообщений, и заканчивая прикладными методиками оценки эффективности содержания транслируемых сообщений (например, контент-анализ), которым свойственна концептуальная ограниченность и которые призваны скрыть истинное содержание сообщений.
Почти десятилетие спустя, в 1986 г., вышел труд «Культура и массовая коммуникация» В.Ю. Борева и А.В. Коваленко, в котором прослеживалась установка на прагматичность.
Раскрытие авторами замысла империалистов по латентному пропагандистскому распространению буржуазной системы ценностей на окружающий мир сочеталось с призывом обратить внимание на достижения культуры (помимо средств массовой коммуникации) как на наиболее эффективный метод контрпропаганды. Выбор такого исследовательского ракурса означал расширение предметного поля работы: помимо стандартной критики целей и угроз буржуазной пропаганды следовало признание положительного опыта данной технологии в отношении апелляции к культурному наследию. А это дало в результате «возможность закамуфлировать политику господствующего класса под интересы всего общества, сделать влияние идей более направленным и постоянным» [Борев, Коваленко 1986: 12].
Оказание воздействия на эмоциональную сферу сознания людей посредством дублирования образцов произведений массовой культуры, по мнению В.Ю. Борева и А.В. Коваленко, является менее агрессивной, а следовательно более эффективной технологией внушения мысли о превосходстве жизни в капиталистическом обществе. Соответственно, «функционирование современной культуры в системе электронных средств массовой коммуникации» [Борев, Коваленко 1986: 13] в состоянии привести к совершенствованию пропагандистского инструментария в СССР. Распространение художественных форм воздействия должно способствовать приобщению людей к памятникам мировой культуры, единению аудитории и, что самое главное, ускорению процесса формирования нового человека – человека коммунистического с соответствующей системой ценностей и ориентиров. Нацеленность на разработку научно обоснованных методов эстетического воспитания индивида с помощью трансляции разнообразных элементов культуры позволяет с определенной долей условности отметить прикладное назначение рассматриваемого исследования.
Рассмотрение трудов советских авторов позволило раскрыть специфику их подходов к изучению феномена массовой коммуникации. На конструировании научного дискурса по данной проблеме сказалось преимущественно влияние политического контекста, в рамках которого осмысление средств массовой коммуникации отличалось крайне ограниченным характером. Низкая степень проработки теоретической и методологической базы по этой теме компенсировалась обращением к зарубежным источникам, что повлияло на понятийно-категориальный аппарат и общее содержание работ отечественных исследователей.
Список литературы Предпосылки становления теории массовой коммуникации в XX в. на примере советского опыта
- Багиров Э.Г. 1978. Очерки теории телевидения. М.: Искусство. 151 с
- Березин В.М. 2003. Массовая коммуникация: сущность, каналы действия. М.: РИП-холдинг. 174 с
- Бирюков Н.С. 1977. Буржуазное телевидение и его доктрины. М.: Мысль. 278 с
- Борев В.Ю., Коваленко А.В. 1986. Культура и массовая коммуникация. М.: Наука. 303 с
- Власов Ю.М. 1985. Средства массовой информации и современное буржуазное государство. М.: Изд-во МГУ. 224 с
- Шандра В.А. 1978. Пропаганда марксистско-ленинской теории в газете: учебно-методическое пособие. М.: Изд-во МГУ. 72 с