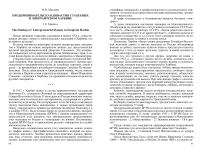Предпринимательская династия Стахеевых в эмигрантском Харбине
Автор: Маслова Инга Владимировна
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Антибольшевистская Россия
Статья в выпуске: 63, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается история российской эмиграции в Харбине на основе биографического анализа жизни и деятельности представителей российской предпринимательской династии Стахеевых. В качестве источников использованы ранее неизвестные документы личных дел трех представителей этой династии. Эти личные дела были созданы государственным органом, специально созданным японской оккупационной администрацией для контроля над русскими эмигрантами и русскими эмигрантскими организациями в Маньчжурии. Представители династии Стахеевых покинули Россию в составе первой и второй волн эмиграции. Их судьбы свидетельствуют о том, что эмиграция изменила экономический и социальный статус россиян, которые были вынуждены покинуть страну. Заняться привычными видами коммерческой деятельности у предпринимателей получалось далеко не всегда. Вывезенные из России деньги и ценности позволяли продержаться незначительное время, а затем следовало искать работу. Им приходилось браться за самую разную и низкооплачиваемую работу в сфере услуг, транспорта, охраны, торговли. Женщины и девушки, оказавшись в чужой стране без кормильцев, зарабатывали рукодельем, частными уроками иностранных языков, нанимались в экономии и официантки. Навыки, формировавшиеся как элемент традиционного внутрисемейного трудового воспитания женщин, приобрели характер жизненно-необходимых. Резкая смена социально-экономического статуса и повседневности отразилась и на физическом, и на психологическом состоянии эмигрантов.
Маньчжурия, харбин, китайско-восточная железная дорога (квжд), русская эмиграция, социальная адаптация, повседневность, предприниматель, предпринимательство, род стахеевых
Короткий адрес: https://sciup.org/149127385
IDR: 149127385 | DOI: 10.24411/2072-9286-2020-00006
Текст научной статьи Предпринимательская династия Стахеевых в эмигрантском Харбине
Новые архивные открытия, сделанные в начале XXI в., стимулировали интерес ученых к жизни русского населения в Харбине, его истории и культуре1.
В статье изучаются некоторые аспекты жизни русских эмигрантов в Харбине на основе материалов личных дел представителей крупной предпринимательской династии Стахеевых. Эти материалы сохранились в Государственном архиве Хабаровского края, в составе фонда Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурии.
Стахеевы были выходцами из провинциального купечества Вятской губернии. Они прошли путь от индивидуального торгово-промышленного предпринимательства до семейных торговых домов и далее - до крупнейшего российского концерна Стахеева-Путилова-Батолина. После революции и Гражданской войны, после многих лет жизни в Париже семья учредителя концерна - Ивана Ивановича Стахеева - оказалась в Харбине, где проживало большое количество русских эмигрантов.
* * *
В 1932 г. Харбин вошел в состав марионеточного государства Маньчжоу-Го, созданного Японией на оккупированной территории Северо-Восточного Китая. К выходцам из России японские оккупационные власти относились настороженно, подозревая их в работе на советскую разведку. Но игнорировать столь большую и активную группу населения было невозможно. С целью организации связи между эмигрантами и правительственным аппаратом Маньчжоу-Го в декабре 1934 г. было создано Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи (БРЭМ). Главным направлением его деятельности стал контроль над эмигрантскими организациями, учет выходцев из России и «освещение» их жизни2. Несомненно, задачей БРЭМ было и привлечение русских эмигрантов на службу японским властям.
Насколько основательно велся учет эмигрантов, можно понять по графам анкеты «Биографические сведения», который им предлагалось заполнить. Помимо привычных анкетных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, вероисповедание) требовалось указать псевдоним или сценическое имя (это свидетельствовало о 60
специфике социального и профессионального состава русских эмигрантов: большой доле представителей мира журналистики, литературы и искусства).
В графе «подданство» у большинства значится безликое «эмигрант».
А далее начиналась настоящая проверка на благонадежность: «Возбуждали ли ходатайство о вступлении в подданство СССР, когда и где?», «Имели ли паспорт СССР?», «Когда перестали пролонгировать паспорт СССР и по какой причине?», «Причина выхода из советского подданства» и т.д. После этого следовало ответить на вопросы о жилищных условиях и составе семьи.
Поскольку Харбин обязан своим рождением Китайско-Восточной железной дороге и многие выходцы из России обслуживали именно ее работу, несколько пунктов анкеты предлагали ответить на вопросы о том, на каких железных дорогах, в какой должности служил анкетируемый и т.д.
Для тех, кто трудился в других сферах, подробно по годам, с 1910 по 1941 гг, следовало указать место службы, должность, размер оклада. Дополнительно следовало указать размер и стоимость имущества, которым владел анкетируемый в Харбине.
Особый раздел анкеты был озаглавлен «Общественно-политические сведения», где анкетируемому предлагалось сообщить сведения, в каких политических, военных, революционных, общественных организациях он состоял, указать размер членских взносов, причину вступления или выхода. При заполнении графы о «политических убеждениях» предлагался широкий выбор различных политических взглядов: монархист, республиканец, либерал, легитимист, демократ, социалист, фашист.
Конечно, маньчжурские власти особенно интересовались военной службой эмигрантов. В анкете требовалось указать воинский чин, места службы, ранения, награды, участие в военных кампаниях, особенно кампаниях мировой и Гражданской войн.
В общей сложности анкетируемому предлагалось заполнить ответами на вопросы 77 граф.
Центральный аппарат БРЭМ состоял из шести отделов и канцелярии. Его местные отделения располагались на крупнейших железнодорожных станциях. К концу декабря 1935 г. в БРЭМ было зарегистрировано уже 163 эмигрантских организации в Маньчжурии: политических - 2, общественных - 27, бывших военных - 18 и других3.
Среди личных дел эмигрантов, сформированных сотрудниками БРЭМ, нашлись три дела представителей династии Стахеевых.
Первые два дела - Стахеевой Ольги Флегонтовны и ее дочери Ольги Ивановны.
Ольга Флегонтовна была супругой Ивана Ивановича Стахеева (1869 - 1919). Она родилась в Москве 26 июня 1889 г. Согласно ан- кетным данным БРЭМ, в 1906 г. она окончила женскую гимназию в Иваново-Вознесенске.
Сведения о дате заключении брака с Иваном Ивановичем в документах БРЭМ отсутствуют.
В 1905-1910 гг. ее супруг, Иван Иванович Стахеев, являлся ведущей фигурой в делах торговой фирмы своего отца. Однако участие в деятельности семейного торгового дома сдерживало его деловую активность, и он принял решение о выходе из него. В мае 1912 г. между И.И. Стахеевым и И.И. Ватолиным был заключен договор о создании торгово-промышленного товарищества «И. Стахеев и К°». К 1917 г. общий баланс товарищества «И. Стахеев и К°», которое стало головным обществом концерна Стахеева-Путилова-Батолина превышал сумму 300 млн руб., а если учитывать обороты всех предприятий, связанных с концерном, то, по мнению его организаторов, эта цифра «выражается уже в миллиардах»4.
В анкете, заполненной в БРЭМ, Ольга Флегонтовна написала о своей жизни до 1914 г. «нигде не служила, занималась домашним хозяйством»5.
Революционные события вынудили семью Стахеевых в 1918 г. переехать из Москвы в Крым. Потеряв в революционной России огромные капиталы, крупные предприятия и недвижимость, Иван Иванович Стахеев примкнул к Белому движению. Он погиб, как сообщала харбинская газета «Заря», «вместе с генералом Алмазовым от рук красных убийц»6. Это означает, что он входил в состав военной делегации, направленной генералом А.И. Деникиным к адмиралу А.В. Колчаку. Эту делегацию возглавлял генерал А.И. Гришин-Алмазов, бывший командующий антибольшевистской Сибирской армией, а затем военный губернатор Одессы, представлявший Добровольческую армию. В Каспийском море пароход «Лейла», на котором плыла делегация, был перехвачен большевистским эсминцем «Карл Либкнехт». Эти трагические события произошли 5 мая 1919 г.
Получив известие о гибели супруга, Ольга Флегонтова уехала во Францию. Она ждала ребенка - дочь, о рождении которой Иван Иванович так и не узнал.
Дочь, родившуюся в Париже 28 ноября 1919 г, назвали Ольгой. Вдвоем с ней Ольга Флегонтовна жила, видимо, на средства, вывезенные из России.
В июне 1936 г. она приехала с дочерью в Харбин, где они остановились в фешенебельной гостинице «Модерн». Цель приезда становится понятной из документов ее личного дела, заведенного в БРЭМ: она встретилась с бывшим компаньоном мужа Ватолиным. Согласно донесению, подшитому в личное дело, она профинансировала поезду Батолина в Токио. Они намеревались получить концессии в Маньчжоу-Го при помощи японских финансистов.
Однако Ольга Флегонтовна не учла трудного положения русских эмигрантов в Харбине, особенно предпринимателей, которые часто становились жертвой и преступников, и полиции.
Жизнь русских эмигрантов в Харбине ярко отразили воспоминания итальянского предпринимателя Амлето Веспа, сотрудничавшего с японской разведкой. Судя по этим воспоминаниям, атмосфера, царившая в Харбине, была чрезвычайно опасной. Похищение людей ради выкупа стало нормой жизни, при этом полиция не только закрывала глаза на эти преступления, но принимала в них участие. Веспа приводит несколько примеров: «Купец Тарасенко был похищен жандармерией и уплатил 15 тысяч долларов, после этого его похитила муниципальная полиция, взявши с него 5 тысяч долларов. Купца Тисменицкого заставили уплатить 15 тысяч долларов. Есюки-на - 10 тысяч долларов»7.
Подобная же тревожная и опасная обстановка сложилась во Владивостоке, куда хлынул поток беженцев из центральной России уже в 1919 г. Татьяна Петровна Карсон (в девичестве Стахеева) вспоминала: «...Оставаться в городе было опасно: людей, известных, как состоятельные, похищали и грабили бандиты. Похищенных удерживали в городах и требовали за них выкуп. У нас, конечно же, уже не было никаких денег, так как банки в России были национализированы. Остались только мамины украшения»8.
О Харбине 1930-х гг. Веспа пишет: «Харбин, когда-то жизнерадостный город, теперь стал царством ходячей смерти... Может быть, ни в одном другом большом городе жизнь не стала такой ненадежной. Жители Харбина рискуют жизнью, если куда-нибудь отправляются безоружными даже среди белого дня. Нападения грабителей, кражи, убийства и похищения стали обыденным явлением»9.
Даже в фешенебельной гостинице «Модерн» Стахеева с дочерью не могли чувствовать себя в безопасности. Хозяин гостиницы Иосиф Каспе был владельцем ювелирного магазина, нескольких драматических театров и кино, председателем правления акционерного общества, то есть человеком весьма состоятельным и влиятельным. Но это не спасло от похищения его собственного сына.
Подробно восстановить жизнь Ольги Флегонтовны Стахеевой по сохранившимся в ее личном деле документам не представляется возможным. Но о трех фактах можно утверждать с большой долей уверенности.
Первый: попытка получить концессию в Мачьжоу-Го провалилась.
Второй: мать и дочь Стахеевы находились под пристальным наблюдением БРЭМ. Подтверждением является донесение агента (подобные документы всегда были анонимными) о дочери - Ольге Ивановне Стахеевой. В нем указывается, что ее мать Ольга Флегонтовна работала вышивальщицей в салоне «Люкс» с заработком 40-50 гоби в месяц (гоби - маньчжурский юань - приравнивался к японской иене)10.
Третий: материальное положение матери и дочери становилось все хуже. Заполняя анкету БРЭМ, Ольга Флегонтовна в графе «Место работы» указала салон «Люкс», добавив к нему и другие салоны. Видимо, вдова миллионера бралась за различные подработки по вышиванию.
В августе 1936 г. ее 17-летняя дочь Ольга заболела тяжелой формой скарлатины, что вызвало беспокойство владельца и постояльцев гостиницы «Модерн». И Стахеевым пришлось переехать к родственникам, в эмигрантский район Модягоу11. Там располагалось благотворительное общежитие для беженцев, созданное Харбинским комитетом помощи русским беженцам. Для обслуживания общежитий с беженцами комитетом содержался медицинский персонал в составе одного врача и четырех фельдшеров12. Благодаря этому больная Ольга получала квалифицированную медицинскую помощь, что способствовало ее выздоровлению.
Ольга Ивановна Стахеева в 1935 г. получила во Франции среднее образование. Она в совершенстве владела французским и английским языками. В Харбине, после выздоровления, служила экономкой у датчанина Нельсона и получала 50 гоби в месяц13.
Согласно анкетным данным, содержащимся в ее личном деле, до мая 1944 г. Ольга Ивановна жила с матерью в квартире по адресу: ул. Раздельная 5, кв. 14. Эта часть Харбина, находившаяся восточнее китайского района Модягоу, застраивалась с 1907 г. Здесь отводили участки и русским, и китайцам. Границей между двумя поселениями (европейским и китайским) стала улица Раздельная. Со временем территория русского поселения, расширяясь, превратилась в один из самых привлекательных спальных районов Харбина, который русские эмигранты называли «Модяго».
В конце анкеты Ольги Ивановны, которую она заполняла 27 мая 1944 г, после ее подписи, вписано примечание, содержащее оценку анкетируемой, включая ее физическое состояние: «Вид здоровый, ответы положительные, впечатление хорошее»14. Поэтому совершенно неожиданной воспринимается газетная вырезка от 14 октября 1944 г. с заметкой о ее смерти. В ней сообщалось, что Ольга Ивановна Стахеева после литургии в Свято Алексеевском храме была похоронена на Новом кладбище.
К сожалению, на этом данные о жизни двух женщин, матери и дочери, из рода Стахеевых, в Харбине обрываются. И пока нет возможности установить, как сложилась дальнейшая судьба Ольги Флегонтовны.
* * *
Третье дело, хранящееся в фонде БРЭМ, - Василия Григорьевича Стахеева. Сопоставление различных источников приводит к выводу, что Василий Григорьевич был сыном Григория Васильевича 64
(1875 - 1925/27) и Варвары Павловны (1876 - 1920) Стахеевых. В марте 1937 г. он собственноручно заполнил анкету в 3-м отделении БРЭМ15.
Согласно сведениям, Василий Григорьевич Стахеев родился 4 июня 1900 г. в Елабуге.
Уточним, что он был внуком Глафиры Федоровны Стахеевой - крупной благотворительницы, устроительницы Епархиального женского училища в Елабуге. У его родителей было семеро детей: братья Григорий, Федор, Петр и Василий и сестры Мария, Варвара и Анна. О судьбе братьев и сестер Василий Григорьевич сообщает в анкете: «сведений нет с 1929 г, жили в Сибири».
В 1911 г. Василий Григорьевич поступил в Елабужское реальное училище (построено в 1878 г. на благотворительные средства его предка купца И.И. Стахеева). В апреле 1918 г. он успешно окончил училище и поступил «по конкурсу аттестатов» в Петровско-Розу-мовский сельскохозяйственный институт в Москве.
Гражданская война нарушила образовательные планы Василия, и в июле 1918 г. он вступил в антибольшевистские вооруженные силы, в дальнейшем служил в армии адмирала Колчака. Как сам Василий Григорьевич указал в анкете, он участвовал в военных компаниях и походах в составе Белой гвардии с июля 1918 г. по декабрь 1920 г. Отвечая на вопрос анкеты о членстве в военно-политических организациях, он указал «военно-монархический союз».
Прибыв в Харбин в 1920 г, Василий Григорьевич через год устроился курьером в контору «Воскитрусс». В 1922 г. он предпринял попытку наладить торговлю мануфактурой в Японии. Скорее всего, это торговое предприятие не принесло коммерческого успеха, поэтому через год он вернулся в Харбин. С 1923 по 1933 гг. он сменил несколько мест работы: матрос судоходства КВЖД, заведующий магазином Сунгорийских мельниц, старший приемщик, затем доверенный японской лестной фирмы «Ваки», подрядчик в фирмах М.И. Лютая и Ф.П. Ишинпковского. Два последних места работы были так или иначе связаны с КВЖД. К примеру, китаец Михаил Иванович Лютай был искуснейшим печником - кладчиком голландских печей и каминов в Харбине, был крупным подрядчиком КВЖД (подрядчики поставляли различные материалы для дороги или производили какие-либо работы для нее)16. Лютай до революции бывал в Москве и Санкт-Петербурге, имел много друзей среди русских, которые считали его «совершенно своим». Он и подобные ему китайские предприниматели старались поддержать русских эмигрантов, предоставляя им работу.
Тяжелым для Василия Григорьевича выдался 1933 г. когда он в течение года не мог найти работу. В опубликованном письме его двоюродного дяди Григория Ивановича Стахеева к сыну Борису содержится умозаключение насчет того, почему русским так тяжело найти работу в Харбине: «На Харбин уже надеяться нельзя. Здесь в спросе лишь военные, а по другим специальностям идут сокращения. Вот Вася Стахеев работал у японцев поденно на линии, получал по 5 иен в сутки; в месячные же не берут и всюду ставят своих, но теперь более месяца без работы он. Вообще на Харбин нужно ставить крест. Народ отсюда уезжает на юг, о чем я тебе писал уже не раз»17.
Но в 1934 г. Василию Григорьевичу удалось найти постоянную работу служащего Харбинского пароходного синдиката с окладом 73 гоби в месяц. В апреле 1939 г. его перевели с сохранением места на службу в пароходство «Мантецу», где прослужил до апреля 1941 г. и был уволен по сокращению штата. В 1941-1942 гг. он служил в японской транспортной фирме «Кокусай-Унью», которая предоставила суда для дальнейшей транспортировки грузов, доставленных по железным дорогам. Самую большую зарплату (75 гоби) Стахеев стал получать, устроившись охранником в Еврейский народный банк, где работал в 1942-1945 гг.18
За 25 лет с момента приезда в Харбин Василию Григорьевичу пришлось сменить десять мест работы, причем бывали периоды, когда работы не находилось вовсе. Его «трудовой стаж» показывает, что плачевное материальное положение русских эмигрантов в Харбине было вызвано не столько нежеланием или неумением их выполнять какую-либо работу (ведь среди них были и аристократы, и крупные предприниматели), сколько отсутствием возможности получить работу, не говоря уже о достойном заработке.
Василий Григорьевич состоял в браке с Липой Кришевной Янайт 1895 года рождения. Она была уроженкой Курляндской губернии, латвийская подданная, лютеранского вероисповедания. Прибыла в Харбин с волной беженцев в 1918 г. и работала кельнершей (официанткой) в ресторанах. В 1921 гг. Василий Григорьевич и Липа Киршевна стали жить вместе в гражданском браке. Детей в их семье не было.
Среди родственников, помимо двоюродной тети Ольги Флегонтовна и ее дочери Ольги Ивановны, он указал в анкете двоюродного дядю Григория Ивановича Стахеева, о котором сообщил, что тот проживает в Харбине и перебивается случайными заработками.
Указание адреса проживания Василия Григорьевича (ул. Пин чуан № 21, Частный Затон) позволяет выявить общие условия проживания русских эмигрантов этом районе. Затон - это большой район Харбина, находившийся «за рекой», то есть на левом берегу р. Сунгари. Изначально здесьрасполагалсяпоселокстроителейилюдей, работающих в порту на разгрузке барж. С 1899 г. Затон стал активно застраиваться и разделился на две части. Ниже железнодорожного моста по течению реки располагался Казенный Затон, выше -Частный Затон. Последний был весьма респектабельным районом, в котором преобладали дома и дачи. Это было место отдыха 66
харбинцев с ресторанами и пляжем, спортивными сооружениями. В 1924 г. в Затоне была построена красивая церковь, посвященная покровителю всех путешествующих и плавающих - святителю и чудотворцу Николаю. Василий Григорьевич входил в состав членов приходского совета этой церкви, в обязанности которых наряду с прочими входило заботиться об обеспечении храма всем необходимым для «благолепного совершения богослужений».
* * *
Даже обрывочные сведения о жизни трех представителей династии Стахеевых в условиях харбинской эмиграции дают возможность выделить основные социально-экономические и психологические характеристики, дополняющие и в целом подтверждающие общую историческую картину Русского зарубежья.
Первое появление русских эмигрантов за пределами революционной России следует отнести к 1918 г. При этом в первой волне преобладали женщины и дети, которых главы семейств отправляли «переждать» чрезвычайную ситуацию, возникшую в стране. Но главная масса россиян устремилась за границу после крушения Белого движения в Забайкалье и Приморье в 1922 г. Волна эмигрантов хлынула на территорию Северной Манчжурии.
Особую роль в осуществлении контроля над жизнью русских эмигрантов и деятельности их организаций в Харбине сыграло Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи. Его делопроизводство оставило нам в наследство большое количество документов, которые являются важнейшим источником для изучения Русского зарубежья на Дальнем Востоке. И это документальное наследие нуждается в дальнейшем изучении.
Эмиграция изменила экономический и социальный статус покинувших страну россиян. Вывезенные деньги и ценности позволяли продержаться незначительное время, а затем следовало искать работу. Учитывая, что заняться привычными видами деятельности российские предприниматели имели возможность далеко не всегда, им приходилось браться за самую разную и низкооплачиваемую работу (в сфере услуг, транспорта, охраны, торговли). Женщины и девушки, оказавшись в чужой стране без кормильцев, зарабатывали рукодельем, частными уроками иностранных языков, нанимались в экономии и официантки. Навыки, формировавшиеся как элемент традиционного внутрисемейного трудового воспитания женщин, приобрели характер жизненно-необходимых.
Смена социально-экономического статуса и бытовой повседневности отражалась не только на физическом, но и на психологическом состоянии эмигрантов. Однако невзирая на трудности, с которыми столкнулись русские эмигранты в Харбине, именно благодаря их деятельности этот город в 1920-е - 1930-е гг. стал культурным центром Северо-Восточного Китая.
Список литературы Предпринимательская династия Стахеевых в эмигрантском Харбине
- Аурилене Е.Е. Российская диаспора в Китае (1920 - 1950-е гг.). Хабаровск, 2008; Капран И.К. Повседневная жизнь русского населения Харбина (конец XIX в. - 50-е гг. ХХ в.). Владивосток, 2011; Кротова М.В. СССР и российская эмиграция в Маньчжурии, 1920 - 1930-е гг. Санкт-Петербург, 2014; Кротова М.В. Феномен Харбина как полифоничного города // Historia provinciae - журнал региональной истории. 2019. Т. 3. № 2. С. 749-785.
- Буржинская И. Здесь под небом чужим // Мой университет. 2012. № 4. С. 125.
- Буржинская И. Здесь под небом чужим // Мой университет. 2012. № 4. С. 125.
- К истории концерна И. [Г.] Стахеева // Исторический архив. 1957. № 3. С. 168.
- Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 45214. Л. 1об.
- ГАХК. Ф. 830. Оп. 3. Д. 3196. Л. (не пронумерован).
- Веспа А. Тайный агент Японии. Хабаровск, 1939. С. 117, 118.
- Карсон Т. Воспоминания о русской семье. Краснодар, 2009. С. 84.
- Веспа А. Тайный агент Японии. Хабаровск, 1939. С. 122.
- ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 45214. Л. 6.
- Там же. Л. (не пронумерован).
- Лазарева С.И. Роль Харбинского комитета помощи русским беженцам в становлении социальной защиты русских эмигрантов в Маньчжурии (1923 - начало 40-х гг. ХХ в.) // Известия Восточного института. 2013. № 1 (21). С. 15.
- ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3, Д. 45188, Л. 1об.
- ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 45214. Л. 19.
- ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 45179. Л. 3-7об.
- 16МелиховГ.В. Белый Харбин: Середина 20-х. Москва, 2003. С. 100.
- Валеев Н.М., Валеева Н.Г. Елабуга. Харбин. Сидней... Казань, 2007. С. 148.
- ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 45179. Л. 20.