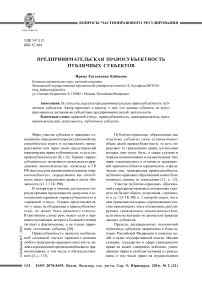Предпринимательская правосубъектность публичных субъектов
Автор: Кабанова Ирина Евгеньевна
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Вопросы частноправового регулирования: история и современность
Статья в выпуске: 2 (31), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется предпринимательская правосубъектность публичных субъектов. Автор приходит к выводу о том, что данные субъекты не могут признаваться активными субъектами предпринимательской деятельности.
Правовой статус, правосубъектность, предприниматель, предпринимательская деятельность, публичные субъекты
Короткий адрес: https://sciup.org/14973291
IDR: 14973291 | УДК: 347.512
Текст научной статьи Предпринимательская правосубъектность публичных субъектов
Мера участия субъекта в правовых отношениях определяется предоставленной ему способностью иметь и осуществлять непосредственно или через своих представителей юридические права и обязанности, то есть его правосубъектностью [8, с. 6]. Термин «правосубъектность» не является легальным в гражданском законодательстве, поскольку в ГК РФ используется синонимичное понятие «правоспособность», определяемое как способность иметь гражданские права и нести обязанности (ст. 17 ГК РФ).
В литературе в течение длительного периода времени продолжаются дискуссии о соотношении терминов «правосубъектность» и «правовой статус». Однако представляется, что у лица, не обладающего правосубъектностью, не может быть правового статуса. В противном случае речь может идти о правовом положении, которое в большей степени тяготеет к фактическому, а не только правовому состоянию субъекта [20].
Правосубъектность является необходимой составной частью правового режима любого гражданско-правового института, являясь юридической предпосылкой всякого правоотношения, в том числе и обязательственного [5, с. 113].
Публично-правовые образования как властные субъекты сами устанавливают объем своей правосубъектности, то есть определяют те гражданские права, носителями которых они могут быть, а также условия и порядок возникновения и осуществления этих прав, следовательно, в отличие от гражданской правоспособности юридических и физических лиц, гражданская правоспособность публично-правовых образований может быть изменена самими ее носителями [12, с. 12].
Участие публично-правовых образований в гражданско-правовых отношениях строится на базисе общего дозволения, сделанного в ст. 124 ГК РФ, п. 2 которой гласит, что к ним применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или природы данных субъектов.
Пределы дискреционных полномочий публичных субъектов закреплены в Конституции Российской Федерации в качестве целей и задач государственной власти. Иными словами, государство в сфере гражданского права не может совершать действия, ущемляющие права и свободы человека и гражданина, в том числе право на осуществление предпринимательской и иной деятельности, право на свободный труд, право частной собственности, государство должно обеспечивать единство экономического пространства и т. д. Эти конституционные ограничения свободы государства в экономической области и образуют пределы его гражданской правосубъектности. Эта правосубъектность должна быть признана ограниченной теми целями, ради которых существует государство.
Вступление публичных субъектов в гражданские правоотношения обусловлено необходимостью удовлетворения публичных нужд, в связи с чем в современной литературе преобладает точка зрения о специальной правоспособности (правосубъектности) публично-правовых субъектов [3, с. 10–11].
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о предпринимательской правосубъектности публично-правовых образований. Должна ли быть у государства и иных публичных субъектов предпринимательская правосубъектность и в каких пределах они могут хозяйствовать?
Целесообразность участия государственных органов и органов местного самоуправления в гражданском обороте обусловлена возможностью более оперативного и эффективного решения ими вопросов организации своей деятельности, а также выполнения своих функций [9, с. 69]. Ведь деятельность публичных субъектов в любом случае является проявлением их императивных полномочий, даже если она осуществляется путем вступления в гражданские правоотношения.
Легальная дефиниция понятия «предпринимательская деятельность» закреплена в п. 1 ст. 2 ГК РФ [1, с. 38], в связи с чем в литературе высказывалось мнение о том, что, будучи сформулированным в ГК РФ, данное определение ориентировано в первую очередь на отношения, регулируемые этим законом [16, с. 21].
Однако судебная практика иначе оценивает факт наличия дефиниции предпринимательской деятельности именно в Гражданском кодексе, призывая руководствоваться нормой п. 1 ст. 2 ГК РФ и в тех случаях, когда решается вопрос о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» [15], и тогда, когда выясняется, образу- ют ли действия лица состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» [14], в связи с чем И.В. Ершова делает вывод об «универсальности закрепленного в п. 1 ст. 2 ГК РФ определения предпринимательской деятельности и его применимости как к отношениям частноправового, так и публично-правового характера, что, впрочем, не мешает говорить о несовершенстве рассматриваемой дефиниции, выделять недостатки как сущностного, так и юридико-технического свойства» [6, с. 161–162].
О.М. Олейник, напротив, считает, что определение предпринимательской деятельности, данное в п. 1 ст. 2 ГК РФ, является отраслевым, не носит универсального характера и может использоваться в других отраслях права только с известными оговорками, а кроме всего прочего является неполным, поскольку не охватывает производство товаров [13].
В зависимости от содержания предпринимательской деятельности различается и состав ее субъектов. В законодательном определении предпринимательской деятельности указано, что она осуществляется лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Однако в доктрине делаются попытки расширить категорию субъектов предпринимательской деятельности за счет публично-правовых образований, от имени которых в обороте участвуют органы государственной власти и органы местного самоуправления [19, с. 29]. При этом отмечается, что предпринимательская правоспособность государства и муниципальных образований имеет ограниченный характер, предопределяемый приоритетом исполнения ими своих публичных обязанностей. Публичноправовые образования в лице государственных и муниципальных органов власти имеют право непосредственно осуществлять предпринимательскую деятельность лишь в исключительных случаях, предусмотренных соответствующими нормативными правовыми актами, для чего предлагается дополнить п. 3 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [21] (далее – Закон о защите конкуренции) поло- жением о том, что совмещение функций федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных органов власти, органов местного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов допускается лишь в случаях, когда важную для Российской Федерации, ее субъекта или муниципального образования цель невозможно эффективно достичь другим способом.
Предоставленные ч. 1 ст. 34 Конституции РФ право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, право на занятие предпринимательской деятельностью относятся к физическим лицам, которые могут реализовывать его путем осуществления предпринимательской деятельности как без образования юридического лица, так и создавая таковые. Юридические лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, создаются также и публичными субъектами, хотя последние не вправе заниматься предпринимательской деятельностью непосредственно. Отсюда возникает вопрос: обладают ли публичные субъекты способностью выступать активной стороной в предпринимательских отношениях? Ведь они, являясь собственниками принадлежащего им имущества, распоряжаются им в процессе приватизации, передают в аренду, иным образом используют его, получая доходы от такого использования [17]. Добавим к тому же, что публично-правовые образования прямо или косвенно участвуют в корпоративных отношениях [11]. Наконец, самым убедительным доказательством вовлеченности публичных субъектов в хозяйственный оборот является существование контрактной системы.
Поэтому несмотря на то что в п. 4 Определения Конституционного суда РФ от 1 октября 1998 г. № 168-О сделан однозначный вывод о том, что по смыслу ч. 1 ст. 34 Конституции РФ одно и то же лицо не может совмещать властную деятельность в сфере государственного и муниципального управления и предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, в литературе высказывается идея о том, что публично-правовые образования в некоторых случаях могут осуществлять предпринимательскую деятельность [7, с. 106; 22, с. 35]. Так, по мнению О.А. Беляевой, публично-правовые образования приравнены по статусу к юридическим лицам и, следовательно, также могут быть участниками предпринимательской деятельности [2].
Какое бы значение ни вкладывалось в понятие предпринимательства, его сущностной чертой остается стремление к извлечению прибыли. Эта черта не всегда согласуется с теми целями государства, которые закреплены в Конституции РФ, а именно создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7). Поэтому если рассматривать предпринимателя как лицо, «действующее только с целью извлечения прибыли, то основная задача правового регулирования будет состоять в том, чтобы получить с этой прибыли соответствующие налоги, то есть часть дохода предпринимателя отнять в установленном законом порядке. Больше никаких обязанностей ни государство, ни общество на себя не берет, поскольку предприниматель действует исключительно с целью обогащения» [13].
Вместе с тем на современном этапе государство и иные публичные субъекты не могут ограничиваться только ролью «ночного сторожа» и творца правил игры, в которую сами публичные субъекты не играют. Публично-правовые образования активно вовлекаются в экономические отношения в качестве их непосредственного или опосредованного участника, в результате чего границы между бизнес-сообществом и государством становятся довольно условными [4].
Любые совершаемые государством действия должны преследовать публично значимые цели. Отсюда напрашивается вывод о том, что государство не должно иметь предпринимательской правосубъектности. Создаваемые же государством юридические лица такую правосубъектность иметь вполне могут, однако и в этом случае государство не должно выходить за пределы своих конституционных целей. Например, если какая-то отрасль хозяйства способна функционировать на коммерческой основе, государство не должно ее монополизировать для «своих» коммерческих юридических лиц. Это будет необоснованным ограничени- ем свободы экономической деятельности, закрепленной в Конституции РФ.
Механизм обеспечения публичных интересов при реализации гражданской правоспособности публично-правовых образований состоит в закреплении определенной компетенции за государственными и муниципальными органами. Как следует из буквального смысла ст. 125 ГК РФ, органы публично-правовых образований действуют в гражданских правоотношениях от имени публично-правовых образований в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. По мнению ряда цивилистов, компетенция – это и есть специальная правоспособность. Между тем в самом гражданском праве нельзя найти прямых норм, устанавливающих ограниченный характер правоспособности публичных образований [10, с. 142].
В законодательстве следует утвердить такую модель участия публичного субъекта в гражданском обороте, в соответствии с которой реальным носителем гражданских прав и обязанностей является само публично-правовое образование. Оно же должно отвечать за ненадлежащее исполнение обязательств и нести ответственность за причиненный вред.
Представляется, что публично-правовое образование имеет совсем иные цели в сфере предпринимательской деятельности, заключающиеся в осуществлении ее регулирования, оказании поддержки определенным ее субъектам, регулировании ценообразования в определенных областях предпринимательской деятельности и т. д., но не в непосредственном осуществлении предпринимательской деятельности.
«Усмотрение» и «свой интерес» в сфере экономической деятельности для публичных субъектов должны означать только «в рамках полномочий» и «в целях реализации публичных функций». Иными словами, публичные субъекты не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое извлечение прибыли [18].
Согласно ч. 3 ст. 15 Закона о защите конкуренции запрещается совмещение функций федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных органов власти,
ЧАСТНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ органов местного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, установленных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, а также наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами указанных органов, в том числе функциями и правами органов государственного контроля и надзора, если иное не установлено законодательством.
Особенности участия публичных субъектов в обороте и специфика их ответственности гражданским законодательством четко не регламентируются. Однако можно утверждать, что экономическая деятельность публичных субъектов совершенно точно не имеет предпринимательского характера, потому что они действуют в публичном интересе, а не в частном, что является квалифицирующим признаком предпринимательской деятельности.
Непосредственно интересы публично-правовых образований в имущественной сфере реализуют органы власти в рамках контрактной системы в соответствии с их компетенцией, а также в отдельных случаях юридические лица и граждане. Однако участвуя в гражданско-правовых правоотношениях (а имущественные отношения, в которых участвуют публичные субъекты, в том числе и отношения в сфере закупок для публичных нужд, являются, при всей их специфике, гражданско-правовыми), публичные субъекты всегда действуют только в публичных интересах, что исключает возможность признания их активной стороной предпринимательских отношений, действующей на свой риск и в своих интересах.
Список литературы Предпринимательская правосубъектность публичных субъектов
- Белых, В. С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России/В. С. Белых. -М.: Велби: Проспект, 2005. -432 с.
- Беляева, О. А. Предпринимательское право/О. А. Беляева. -2-е изд., испр. и доп. -М.: Контракт: Инфра-М, 2009. -352 с.
- Голубцов, В. Г. Участие Российской Федерации в имущественных отношениях, регулируемых гражданским законодательством: автореф. дис. … д-ра юрид. наук/Голубцов Валерий Геннадьевич. -М., 2008. -54 с.
- Государство и бизнес в системе правовых координат/В. Р. Авхадеев, С. Б. Бальхаева, Ю. В. Боброва . -М.: ИЗиСП: Инфра-М, 2014. -320 с.
- Егорова, М. А. Концепция реализации способов прекращения гражданско-правовых обязательств: дис. … д-ра юрид. наук/Егорова Мария Александровна. -М., 2013. -472 с.
- Ершова, И. В. Понятие предпринимательской деятельности в теории и судебной практике/И. В. Ершова//Lex russica. -2014. -№ 2. -С. 161-162.
- Жилинский, С. Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности)/С. Э. Жилинский. -4-е изд., изм. и доп. -М.: ВЛАДОС, 2003. -392 с.
- Инжиева, Б. Б. Участие государства в современном гражданском обороте/Б. Б. Инжиева. -М.: Юстицинформ, 2014. -240 с.
- Истомин, В. Г. Некоторые аспекты участия публично-правовых образований в гражданских правоотношениях/В. Г. Истомин//Актуальные проблемы цивилистических отраслей права: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 3. -Екатеринбург: УрЮИ МВД России, 2003.
- Камышанский, В. П. Гражданское правоотношение: социально-психологический аспект/В. П. Камышанский, В. Е. Карнушин. -М.: Статут, 2016. -221 с.
- Корпоративное право/Е. Г. Афанасьева, В. Ю. Бакшинскас, Е. П. Губин . -2-е изд., перераб. и доп. -М.: КноРус, 2015. -1080 с.
- Левчук, А. С. Гражданская правосубъектность Российской Федерации: Вопросы теории и практики: автореф. дис.. канд. юрид. наук/Левчук Александр Степанович. -М., 2006.
- Олейник, О. М. Понятие предпринимательской деятельности: теоретические проблемы формирования/О. М. Олейник//Предпринимательское право. -2015. -№ 1. -С. 3-17.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях» от 24 окт. 2006 г. № 18//Бюллетень Верховного Суда РФ. -2006. -№ 12. -П. 13.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» от 18 нояб. 2004 г. № 23//Бюллетень Верховного Суда РФ. -2005. -№ 1. -П. 1.
- Предпринимательское (хозяйственное) право/под ред. В. В. Лаптева, С. С. Занковского. -М.: Волтерс Клувер, 2006. -560 с.
- Российское предпринимательское право/Д. Г. Алексеева, В. К. Андреев, Л. В. Андреева . -М.: Проспект, 2011. -Гл. 6. -1072 с.
- Спектор, А. А. К вопросу о категориях «субъект предпринимательской деятельности» и «субъект предпринимательского права»/А. А. Спектор//Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом». -2012. -№ 2. -С. 40-43.
- Тарасенко, О. А. Предпринимательская деятельность субъектов банковской системы России (правовой аспект): автореф. дис. … д-ра юрид. наук/Тарасенко Ольга Александровна. -М., 2015.
- Тотьев, К. Легитимация субъектов предпринимательской деятельности/К. Тотьев//Законность. -2002. -№ 12. -С. 10-15.
- Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ//Собрание законодательства РФ. -2006. -31 июля. -№ 31 (1 ч.). -Ст. 3434.
- Чорновол, Е. П. Понятие и юридическая природа предпринимательского права/Е. П. Чорновол//Актуальные проблемы цивилистических отраслей права: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 3. -Екатеринбург: УрЮИ МВД России, 2003.