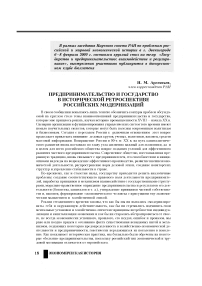Предпринимательство и государство в исторической ретроспективе российских модернизаций
Автор: Арсентьев Николай Михайлович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Дискуссионный клуб
Статья в выпуске: 1 (8), 2010 года.
Бесплатный доступ
В выступлении обозначены контуры проблем обсуждаемых на круглом столе темы взаимоотношений предпринимательства и государства в контексте истории промышленности XVIII - начале XX в.
Модернизация, предпринимательство, предпринимательские династии, типы предпринимателей
Короткий адрес: https://sciup.org/14723521
IDR: 14723521
Текст статьи Предпринимательство и государство в исторической ретроспективе российских модернизаций
В своем сообщении попытаюсь лишь тезисно обозначить контуры проблем обсуждаемой на круглом столе темы взаимоотношений предпринимательства и государства, которые мне пришлось решать, изучая историю промышленности XVIII —начала XX в. Сценарии организации и функционирования управленческих систем того времени имеют немало поучительных сюжетов, которые могут быть полезны современным политикам и бизнесменам. Сегодня с переходом России к рыночным отношениям этот вопрос продолжает привлекать внимание деловых кругов, ученых, политиков, наконец, средств массовой информации. Возвращение России в 90-х гг. XX в. на путь капиталистического развития вновь поставило во главу угла жизненно важный для экономики, да и в целом для всего российского общества вопрос создания условий для эффективного развития частного предпринимательства. Современное общество, восстанавливая прерванную традицию, вновь связывает с предпринимателем, его способностями и инициативами надежды на возрождение эффективного производства, развитие внешнеэкономической деятельности, распространение норм деловой этики, создание новаторских структур и укрепление стабильности в стране.
По-прежнему, как и столетия назад, государству приходится решать аналогичные проблемы: создание соответствующего правового поля деятельности предпринимателей, выработка принципов и механизмов взаимодействия с государственными структурами, морально-нравственное оправдание предпринимательства и результатов его деятельности (богатства, капиталов и т. д.), утверждение принципов частной собственности и, наконец, формирование «экономического» человека с присущими ему экономическим мышлением и хозяйственной этикой.
Реалии сегодняшнего времени таковы, что как бы мы ни пытались «модернизировать» себя и окружающую действительность, как бы ни стремились подчинить свои ментальные установки и хозяйственно-этические принципы потребностям индивидуализации и капитализации экономики и как бы ни старались абстрагироваться от своего, не всегда экономически успешного, прошлого, его неудач, ошибок и провалов, мы рано или поздно придем к осознанию факта существования невидимых нитей и механизмов, создающих некоторую предопределенность в хозяйственно-экономической деятельности и предприимчивости, генетически передающихся из поколения в поколение. Как показывает историческая практика, мы буквально были обречены на некоторые «болезни» предпринимательства, поскольку российский тип экономической и трудовой мотивации отличается от европейского.
Объектом моих исследований являлась так называемая «недемократическая» сфера предпринимательства, к которой относились металлургическая и ряд других отраслей, имеющих стратегическое значение. В таких отраслях государство тщательно отслеживало формирование правового поля предпринимательской деятельности и сами предприниматели оказывались тесно связанными с государственными структурами или с отдельными влиятельными лицами, попадали в зависимость от них. Государство даже могло лишать заводчика прав владения предприятием, если он не выполнял возложенные на него обязательства. Это заставляло предпринимателей любыми способами обеспечивать себе «запас прочности» на случай различных непредвиденных ситуаций, способных повлечь за собой неприятные последствия. Предпринимательство превращалось в своего рода дипломатию, «заигрывания» с государством. Естественно, нередко приходилось даже жертвовать своим материальным состоянием, принимая невыгодные решения или прибегая к тактике подарков и финансовой поддержки. Более того, сформировалась своего рода доктрина служения государству, которая распространялась на всех участников производственного процесса вышеобозначенных отраслей. Так или иначе, в этом случае индивидуальное начало в предпринимательской деятельности отходило на второй план, хотя оно, конечно же, не исключалось.
В изучаемом мной периоде времени типы территориально-экономического управления, система соотношения государственного регулирования и частной инициативы были многообразны. Они не могли не повлиять на личность заводовладельца и его предпринимательскую культуру. За XVIII—XIX вв. в России сменилось немало промышленников: одни из них промелькнули, не оставив о себе в памяти потомков ни плохого, ни хорошего —только фамилии в сухих отчетах и сводках правительственных органов; другие же стали героями легенд, мемуаров, книг, архивные дела пестрят сообщениями об их жизни. Они накопили громадные капиталы, составленные промышленным производством, торговлей, финансовыми и экономическими махинациями. Конечно, не одна только счастливая звезда удачи покровительствовала этим людям. Они, безусловно, обладали умением воспользоваться властью денег, когда требовалась поддержка сильных мира сего или возникала необходимость сомкнуть уста закона. В совокупности все они составляли образ российского предпринимателя.
В деятельности «хозяев» заводов можно выделить несколько типов предпринимателей, которые по-разному выстраивали свои взаимоотнощения с властью. Первый тип —выходцы из низших слоев общества (крестьян, мастеровых людей), которым, для того чтобы стать известными предпринимателями, приходилось преодолевать сословные и экономические преграды и по крупицам собирать богатство. В их деятельности особенно ярко проявлялось влияние народной культуры и обычаев, оттеснявшее на второй план подлинно предпринимательские ценности. Приобщение их к реализации стратегических задач промышленного развития происходило через выдаваемые государством разного рода привилегии. К примеру, с Петра Великого до отмены крепостничества занятие промышленностью приравнивалось к государственной службе, а признание предпринимателя в качестве заводчика как бы официально зачисляло его в «штат государственных служащих». Естественно, что, с одной стороны, это давало экономические выгоды, но с другой —угроза правового произвола выставляла ограничения, делая необходимыми выполнение государственной воли и соблюдение государственного интереса во всех предпринимательских делах.
Второй тип представлен бизнесменами, которые существенно расширили масштабы предпринимательской деятельности и многократно приумножили богатство предков. У них уже ярко выражен процесс «индивидуализации», что выражалось в достижении известной доли независимости и самостоятельности от государства, некотором распылении идеалов государственного служения, игнорировании коллективистских общин- ных народных традиций и восприятии подлинно предпринимательских ценностей, «буржуазных добродетелей». Государство порой не интересовали способы достижения производственного успеха. Оказание ему услуг в виде выполнения заказов на производство вооружения и других стратегически важных товаров, а также непосредственная финансовая помощь отдельным очень влиятельным представителям власти обеспечивали заводчикам неприкосновенность и даже безнаказанность. Часть из них, превращаясь в «дворян по богатству», еще более укрепляли свое положение. Они вынуждены были воспринимать культуру «благородного российского сословия», но одновременно продолжая заниматься «недостойными» для носителя дворянской чести и знатности торговлей и промышленностью.
Третий тип представляли предприниматели из числа так называемых наследников, которые по воле случая и стечению обстоятельств стали владельцами заводов. Им свойственны потребительская психология, почти полное отсутствие предприимчивости, равнодушие к производству и заводским делам и т. д. Для них большее значение имели ценности дворянской культуры и нормы дворянской морали. В некоторых случаях даже законное наследование заводов прямыми потомками не находило достойного продолжения. Их деятельность в основном заключалась в дележе имущества, что они производили с небывалой изворотливостью и умением, и безумной трате денег, поживиться которыми не отказывались и чиновники. В поведении и жизненных ориентирах подобных представителей промышленной династии, а также их преемников трудно увидеть такие качества, как практицизм и рационализм, бережливость, трудолюбие. Часто лишь государственное вмешательство спасало их от окончательного разорения. Экономическая эффективность производства была невелика, его поддержка становилась обременительной, и государство стремилось сменить собственников. В первой половине XIX в. в подобных случаях применялась продажа за долги, опека, сдача в аренду. Во второй половине столетия активно развивается управление через менеджеров посредством создания акционерных обществ, товариществ и т. д.
Истории многих предпринимательских династий были удивительно похожи. В их жизнеописаниях как бы преломляется вся противоречивая судьба промышленного сословия XVIII—XIX в. Несмотря на то, что многие династии были в экономическом отношении весьма могущественными, они не отличались устойчивостью. Как правило, их образовывали два-три поколения. Отечественные историки давно подметили, что ни одна известная торгово-промышленная фамилия Петровского и чуть более позднего времени не сохранила своего значения до конца XIX в. Причины этого, возможно, в том, что наиболее крупные промышленные состояния собирались при активной поддержке государства, путем приобретения всевозможных привилегий. Государственное регулирование, в некоторой степени даже огосударствление, обернулось путами, сковывающими экономическую инициативу заводовладельцев, привело к складыванию у них потребительской социальной психологии. Целью предпринимательства стало стремление к накоплению и приумножению богатств, а не к продуктивному их использованию на расширение промышленного производства. К примеру, во многом и этими обстоятельствами вызвана возникшая в 70-80-х гг. XIX в. стагнационная пауза в развитии промышленности. Унаследованные от крепостного времени институты, взгляды, обычаи тормозили технологический и экономический прогресс. Следствием этого стало усиление конкуренции и ускорение социальной мобильности предпринимательства.
Сложившаяся в XVIII—XIX в. система взаимоотношений предпримательства и государства во многом была характерна для милитаризованных государств, нуждающихся в чрезвычайных поставках и посреднических услугах. Это был капитализм промышленников и поставщиков, богатевших на военных заказах государства; капитализм предпринимателей, получавших привилегии за счет использования труда крепостных крес- тьян и взимания с них налогов, приобретения земельных владений и хищнической эксплуатации природных ресурсов. Милитаризация страны сопровождалась дальнейшей бюрократизацией промышленности. Неразделенность властных и управленческих функций создавала колоссальные возможности для различных финансовых афер.
В нынешнее время, как и прежде, наблюдается весьма неблагополучная картина в плане общественного признания и морального оправдания богатства и накопительства, что также позволяет проводить исторические аналогии. Отрицательное отношение к этим неотделимым атрибутам предпринимательской деятельности во многом обусловлено ментальными особенностями русского человека, имеющими непреходящее значение, а также сформированной в общественном сознании легендой о справедливом, а значит, равном распределении национального богатства. Положение усугубляется отсутствием продуманной государственной системы превентивных мер по предупреждению или хотя бы сдерживанию экономической преступности.
Как сегодня, так и в прошлом, наиболее серьезной «болезнью» предпринимательства является отсутствие духовно-нравственных основ деятельности —так называемый социокультурный вакуум, в свою очередь, приводящий к некоторому отчуждению бизнесменов от остальной части общества, неспособности реагировать на его социальные и духовные запросы. Те же причины мешают предпринимательству оформиться в виде развитого социального института, органичного продолжения всей общественной организации. От того, как быстро и чем будет заполнен этот вакуум, зависят надежды и планы современных реформаторов в отношении рыночного будущего России, реальность для нее шанса стать со временем в ряд передовых стран цивилизованного мира или же, напротив, очутиться в обозе мирового общественного прогресса.
Модернизационные преобразования, как в прошлом, так и сейчас, являлись способом адаптации к происходящим в мировой экономике изменениям. Приспособление к новациям во внешнем мире происходило путем внутренней трансформации. Как показывает мировой опыт, наиболее успешными оказывались реформы, при проведении которых учитывались традиции региона. Успех реформирования во многом зависел от степени использования ресурсов существующей социально-экономической и политической системы. Совокупность унаследованных от прошлого институтов, взглядов, обычаев относится к числу важнейших факторов, определяющих своеобразие административно-государственного строительства. Для российской действительности XVIII—XIX вв. была характерна парциальная (или частичная, фрагментированная) модернизация. Автор концепции зависимости от пути развития («западни») нобелевский лауреат Д. Норт по этому поводу высказался следующим образом: «Зависимость от пути свидетельствует о значении истории. Мы не сможем понять сегодняшние решения (и указать их место в современной экономической модели) без отслеживания постепенной эволюции их институтов. . „Последовательные институциональные изменения, происходящие путем маргинальных приспособлений. являются доминирующим путем, по которым движутся общества и экономика». Концепция зависимости от пути развития позволяет связать и объяснить перспективы развития и институциональной преемственности в эволюции обществ, долговременное сохранение неэффективных систем, институций и технологий.
Связь прошлого и настоящего в истории взаимоотношений предпринимательства и государства можно определить формулой «традиции и новации». Находя константы и доминанты исторической ретроспективы, российское предпринимательство всегда существовало как явление, отличное от европейской модели, обнаруживая при этом и унификацию своей экономической сущности, и размывание традиционных духовных ориентиров.