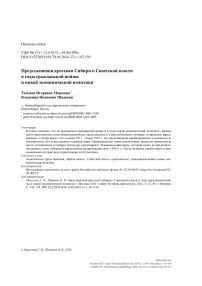Представления крестьян Сибири о советской власти в годы гражданской войны и новой экономической политики
Автор: Морозова Т.И., Шишкин В.И.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье показано, что на протяжении гражданской войны и в годы новой экономической политики у разных групп крестьянства существовали различные представления о Советской власти, которые со временем варьировались. Сделан вывод, что в конце 1917 - конце 1919 г. эти представления сформировались в основном самостоятельно, без существенного влияния извне. Принципиально иначе аналогичные процессы происходили после установления в Сибири диктатуры пролетариата. Решающим фактором, который влиял на представления разных слоев сибирского крестьянства на протяжении всех 1920-х гг., была политика самой власти и применявшиеся ей практики по реализации этой политики.
Политические представления, образы власти, советская власть, крестьянство, гражданская война, новая экономическая политика
Короткий адрес: https://sciup.org/147243119
IDR: 147243119 | УДК: 94(57) | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-1-143-159
Текст научной статьи Представления крестьян Сибири о советской власти в годы гражданской войны и новой экономической политики
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-00155,
Власть и общество были, есть и будут двумя главными акторами исторического процесса. Взаимоотношения между ними в решающей мере определяют как текущее состояние, перспективы и достижения развития, так и неудачи, провалы любой страны. Согласно концепции так называемой политической поддержки, «политическая система функционирует эффективно только тогда, когда граждане позитивно воспринимают власть и оказывают ей психологическое содействие, идентифицируют себя с этой властью» [Образы…, 2009, с. 10].
Картина мира человека, формы и практики отношения разных слоев общества к государству во многом детерминируются представлениями, которые складываются у тех или иных групп населения относительно власти. Поэтому представления принадлежат к числу важных, актуальных, но исключительно сложных для исследования проблем истории.
Трудность их изучения обусловлена как минимум тремя главными причинами. Во-первых, тем фактом, что представления являются воспроизводимыми в сознании человека на основе прошлого опыта образами явлений, не доступных ему для непосредственного восприятия в текущий момент. Во-вторых, малочисленностью источников, содержащих «прямую», непосредственную информацию о представлениях разных категорий населения о власти. В-третьих, неполнотой, фрагментарностью, нечеткостью, «размытостью» и субъективностью сведений, зафиксировавших в источниках те представления о власти, которые сложились и отразились в индивидуальной или коллективной человеческой памяти на основе пережитого опыта.
Целью настоящей статьи является выяснение представлений крестьян Сибири о Советской власти в годы гражданской войны и новой экономической политики. Выбор сибирского крестьянства в качестве объекта исследования в указанных хронологических рамках обусловлен тем, что, несмотря на обилие публикаций о крестьянстве Сибири указанных годов, вопросы ни об их представлениях относительно советской государственности тех лет, ни о том влиянии, которое эти представления оказали на политические настроения и поведение жителей сибирской деревни, специально не изучались. Между тем, исследование представлений разных категорий сибирских крестьян о Советской власти позволит лучше понять их взгляды, настроения, поведение.
Настоящее исследование базируется на двух основных группах источников. Первую составляют доклады и политические обзоры органов РКП(б) – ВКП(б) и секретные информационные сводки ГПУ – ОГПУ, вторую – письма крестьян в разные властные инстанции, начиная от местных парткомов до высших партийно-советских органов и руководителей страны.
Дополнительные сведения были извлечены из разнообразных источников, содержащих информацию, анализ которой позволяет косвенным путем выявлять представления разных групп крестьянства о Советской власти. Это материалы об их участии в выборах в Советы, о членстве в РКП(б) – ВКП(б) и службе в частях особого назначения (ЧОН), об участии в антикоммунистических вооруженных восстаниях и в сопротивлении коммунистическому режиму, о выполнении таких государственных заданий, как сбор продразверстки, продналога, военные и трудовые мобилизации.
Опираясь на перечисленные источники, авторы статьи пытались выяснить, как в одно и то же время разные категории сибирских крестьян представляли себе властную вертикаль, какие представления о власти возникали у них в ходе реального функционирования советской системы, что обусловило формирование именно таких представлений, как и под влиянием каких факторов они менялись на протяжении гражданской войны и нэпа.
В начале 1920-х гг. Сибирь в административном отношении состояла из шести губерний: Алтайской, Енисейской, Иркутской, Новониколаевской, Омской и Томской. Всероссийская демографическая перепись 1920 г. зафиксировала на этой территории 8 078,8 тыс. чел. наличного населения, 7 080,7 тыс. из которых (или 87,5 %) являлись сельскими жителями (Население…, 1921, с. 18–19). Самой многочисленной социальной группой населения Сибири являлось крестьянство.
Государственная и земская статистика различала в сибирском крестьянстве три основные категории: старожилов – тех, кто являлся сибиряком как минимум в третьем поколении; новоселов, живших здесь в первом или во втором поколении; и неприписанных («неприписных») – самовольных переселенцев, не имевших приписки к крестьянскому обществу. Крестьян-старожилов отличали большая зажиточность, самостоятельность, дистанцированность от государственной власти, восприимчивость к новациям, стремление к грамотности. Новоселы же и неприписанные, составлявшие и пополнявшие в основном когорты батраков и бедняков, уступали старожилам в трудолюбии, а в решении хозяйственных вопросов были патерналистски ориентированными, часто рассчитывали на помощь со стороны общины и государства.
На протяжении первых двух десятков лет XX в. в Сибири наблюдалась устойчивая тенденция к увеличению численности и удельного веса новоселов и неприписанных. В ряде уездов Алтайской и Енисейской губерний в совокупности они стали количественно преобладать над старожилами, что повлияло на социальный облик и поведение сибиряков, обострило внутрикрестьянские отношения, увеличило претензии сельских низов к государству.
В соответствии с марксистским подходом в крестьянстве Сибири различались три главные группы: бедняки, середняки и кулаки. Иногда выделялись батраки, которых считали сельским пролетариатом, и зажиточные, к которым чаще всего относили верхний слой середняков. Марксисты, как правило, акцентировали внимание на социальных противоречиях между разными группами, считая, что эти противоречия между «низами» и «верхами» деревни имеют антагонистический характер.
Перепись 1920 г. показала, что в Сибири население было менее грамотно, чем в европейской России. Его грамотность составляла 21,8 %, а удельный вес неграмотных в возрасте 8 лет и старше равнялся 42,9 % (Грамотность^, 1922, с. 8-9). Низкая грамотность являлась огромным тормозом в социокультурном и политическом развитии сибиряков.
Свои исходные представления о Советской власти население Сибири получило с ноября 1917 по май 1918 г. Их источниками стали периодическая печать, выступления леворадикальных пропагандистов, широко циркулировавшие слухи и, самое главное, мероприятия самих Советов.
К концу весны 1918 г. советизация сибирской деревни была далека от завершения. Формально Совдепы существовали в основном на волостном уровне. Количество сельских Советов в лучшем случае исчислялось несколькими сотнями. Тем не менее основная часть крестьян положительно восприняла власть Советов за декреты о мире и о земле, не находила принципиальной разницы между сельскими Советами и сходами, соглашалась признать Советы вместо земства высшей местной властью. Но она была недовольна тем, что во многих Совдепах верховенство захватили маргиналы или социальные «низы», называвшие себя большевиками или левыми эсерами и ставшие ревностно осуществлять «диктатуру пролетариата». Проводники такой политики организовывали вооруженные отряды Красной гвардии, занимались учетом и перераспределением земли, имущества и продовольствия, их конфискацией и реквизицией, сбором налогов, наложением штрафов и контрибуций на торговцев и зажиточных односельчан, арестами и бессудными расправами.
Такое поведение советских радикалов вызывало недовольство и возмущение хозяйственных крестьян. В результате власть Советов с самого начала своего существования и с первых шагов деятельности во многом отождествлялась с большевиками, мнение населения о которых хорошо изложил в письме к В. И. Ленину крестьянин С. И. Пуляевский, живший в деревне Пуляевская Козловской волости Верхоленского уезда. Он писал: «Не поверишь, большевиков считают хуже Николая II-го» 1 .
Другую и более многочисленную группу первых советских активистов составили вскоре вернувшиеся на родину фронтовики, наслушавшиеся леворадикальных агитаторов, уверовавшие в лозунг «Вся власть Советам» и тоже считавшие себя большевиками. Вот как один из них описывал настроение и поведение фронтовиков после их возвращения в родные пенаты: «Распущенные Советом Народных Комиссаров с фронта по домам сибирские крестьяне чувствовали себя господами положения и по-своему понимали завоеванную “слободу” и Советскую власть. Это, мол, наша власть, и она не должна затрагивать наши карманы, и нам все позволено. Лозунг “Власть на местах” как нельзя лучше был понят нашими крестьянами <...>. Не признавали никакого руководящего центра и делали все по-своему на местах. <...>. Когда же Советская власть только слегка коснулась кармана крестьянства, то как молотком кто выбил весь большевизм. Все окрысились и стали во враждебную позицию к Советам» (Соха и молот (Минусинск). 1919. 7 окт.).
Особенно решительное недовольство деятельностью Совдепов выражала активная часть крестьян, состоявшая из зажиточных и грамотных жителей, имевших жизненный опыт. Вот что говорил в июне 1918 г. на сходе крупного с. Ермаковское Минусинского уезда крестьянин А. М. Парываев: «Советская власть много обещала крестьянам и рабочим. Первым она ничего не дала, вторым дала, и только часть, и теперь задача Советской власти удовлетво-
1 ГАРФ. Ф. Р-393. Оп. 2. Д. 42. Л. 147.
рить более рабочих, на которых у власть имущих одна надежда. И что эти рабочие еще не видят обмана со стороны власти, а кр[естья]не все поняли» 2. В результате в начале гражданской войны большая часть сибирских крестьян не только не поддержала Советскую власть, но и участвовала в ее свержении, а в ряде уездов даже сделала это самостоятельно, без какой-либо помощи извне.
Несколько месяцев спустя значительная часть этих же крестьян приняла участие в восстаниях и в партизанской борьбе за восстановление Советской власти. Отдельные вожди и идеологи повстанцев и партизан, среди которых имелись сельские интеллигенты, постарались выяснить ошибки, допущенные предыдущими Совдепами. Главные ошибки они видели в стремлении Советов претворять в жизнь «диктатуру пролетариата» и фанатичное следование большевиков и левых эсеров своим партийным программам, «мало считаясь с условиями жизни, с состоянием производительности [хозяйства], с сознанием народа и т. п.».
Некоторые вожди и идеологи повстанцев и партизан сформулировали представления о том, каким требованиям должна отвечать настоящая Советская власть, и даже попытались претворить их в жизнь на освобожденных от колчаковцев территориях. Пожалуй, наиболее лапидарно и четко эти представления прописал один из видных публицистов минусинских партизан. «Мы, - заявил он, - отрицаем диктатуру одного только пролетариата, а выставляем лозунг: вся власть всему трудовому народу - крестьянам, рабочим и трудовой интеллигенции в лице Советов по пропорциональному представительству и четырехчленной формуле выборов при всеобщем (только трудового [народа]), прямом, равном и тайном голосовании» (Соха и молот. 1919. 1 нояб.).
В конце 1919 - начале 1920 г. Красная армия при поддержке партизан и повстанцев освободила Сибирь от колчаковцев и интервентов. Судя по тому, что в это время несколько тысяч сибиряков добровольно вступили в ряды Красной армии, а значительная часть сельских жителей бесплатно оказывала ей помощь предоставлением жилья, продовольствия и транспорта, в представлениях трудящегося крестьянства о Советской власти преобладали позитивные черты, а образ в целом был положительный, патерналистски содержательный. Вот как представлял себе Советскую власть один из бывших партизан Северо-Канского фронта: «Но теперь настала пора свободы. <...> Мы дождались долгожданной Советской власти, которая как родная мать позаботится о разоренных и измученных борьбой своих верных детях» (Партизан, 1923, с. 127).
Однако представления и ожидания социалистически мыслившей части партизан и крестьян насчет того, что за прошедшие год-полтора Советская власть стала демократичнее и толерантнее, не оправдались. Напротив, за это время Советская власть превратилась в образцовую диктатуру пролетариата. Она приняла более централизованный, жесткий и милитаризованный характер, что открыто продемонстрировала в ходе освобождения Сибири от колчаковцев. Одни партизанские отряды и соединения, существовавшие на ее территории, были немедленно влиты в Красную армию, другие разоружены и расформированы. Созданные партизанами и повстанцами органы власти, в том числе Советы, были упразднены и заменены назначенными сверху революционными комитетами. На этой почве в декабре 1919 -марте 1920 г. между некоторыми партизанскими начальниками и командно-политическим составом Красной армии произошли первые конфликты, вылившиеся в аресты и предание суду части партизанских вожаков.
В сибирской деревне большевики сделали ставку на те социальные элементы из бедноты и середняков, которые безоговорочно приняли Советскую власть и РКП(б), хотя плохо знали, что они представляют собой на самом деле. Там, где имелись бывшие красные партизаны, предпочтение отдавалось им. Из них формировались сельские и волостные ревкомы, перед ними были широко открыты двери для вступления в партию большевиков. С этой целью в Сибири восстановили институт сочувствовавших РКП(б). Сочувствовавшие фактически являлись кандидатами в члены партии и служили ее ближайшим резервом. К осени 1920 г. в сибирской деревне возникла сеть комячеек и ячеек сочувствующих, насчитывавших во многих уездах по несколько сотен человек. Это были те представители бедноты и середняков, которые не ощущали расхождений между своими представлениями о Советской власти и ее политикой в Сибири.
Согласно Конституции РСФСР, принятой в июле 1918 г., государственная власть в России должна была «принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам и их полномочному представительству – Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». Самым многочисленным звеном советской системы должны были являться сельские Советы и волостные исполкомы Советов. Причем верховные партийно-советские власти считали эти низовые ячейки своими представителями на местах. Иначе понимала роль сельсоветов и волис-полкомов основная масса крестьян, которая видела в них выразителей и защитников своих интересов. Отсюда возникло разное отношение руководящих инстанций и населения к выборам и составу сельсоветов и волисполкомов.
В апреле – октябре 1920 г. в Сибири состоялись первые выборы в Советы. Процент сельских жителей, отстраненных от участия в выборах, и электоральная активность допущенных до них по отдельным селам, волостям и уездам значительно колебались. По Сибири в целом участие в выборах приняло 35–40 % крестьян, имевших право голоса. В сельские Советы прошли преимущественно бедняки и середняки, не менее 12–13 % которых являлись коммунистами и сочувствующими РКП(б). Удельный вес коммунистов и сочувствующих в волис-полкомах составлял примерно 40 % [Шишкин, 1985, с. 47–58]. Видимо, игнорирование выборов большей частью крестьян можно рассматривать как свидетельство того, что образ Советской власти в их представлениях потерял привлекательность. Но довольно высокий процент коммунистов и сочувствующих РКП(б) в сельсоветах и волисполкомах говорит о том, что в представлениях как минимум трети сибирского крестьянства произошло отождествление Советской власти с коммунистическим правлением.
В феврале 1921 г. Сиббюро ЦК РКП(б) очень критически оценивало результаты выборов, прошедших в 1920 г., а также состав сельсоветов и волисполкомов, ссылаясь на то, что они «вместо содействия задачам Советской власти оказывали им сопротивление». В ходе сбора продразверстки значительная часть сельсоветов и волисполкомов была распущена, их члены подверглись арестам, принявшим массовый характер, и заменены назначенными сверху уполномоченными.
Причины такого результата Сиббюро видело в недооценке избирательной кампании уездными и даже губернскими партийными организациями. Оно потребовало, чтобы предстоявшие выборы прошли «под непосредственным руководством и влиянием нашей партии». Однако Сиббюро не рекомендовало стремиться к тому, чтобы провести в состав волисполкомов и сельсоветов исключительно коммунистов. Предлагать избирателям списки для голосования, составленные только из членов РКП(б), оно советовало при условии, если местная комячейка пользуется «чрезвычайно большим влиянием в массе крестьянства». В случае отсутствия у ячейки должного авторитета список кандидатов в члены сельсовета или волис-полкома, составленный ячейкой, предлагалось вносить не от ее имени, а от лица трудового крестьянства (Известия Сибирского бюро ЦК РКП(б). 1921. 15 февр., с. 6).
В целом успешно летом – осенью 1920 г. прошли в Сибири мобилизации военнообязанных 1901, 1899 и 1900 годов рождения, бывших подпрапорщиков, фельдфебелей и унтер-офицеров. Хотя неявка без уважительных причин 21,7 тыс. призывников показала, что в Сибири количество недовольных если не Советской властью в целом, то отдельными ее мероприятиями увеличилось. Правда, половина этого недобора по мобилизации компенсировалась формированием состоявших из добровольцев бригады и двух полков под командованием бывших партизанских вождей Е. М. Мамонтова, А. Д. Кравченко и П. Е. Щетинкина. Все это свидетельствовало о том, что в представлении не только коммунистов, но и многих беспартийных партизан и обыкновенных крестьян Советская власть отождествлялась как с диктатурой пролетариата, так и с государством, являющимся рабоче-крестьянской властью.
Важным показателем, проливающим свет на эволюцию представлений разных групп крестьянского социума о Советской власти, стало объявление летом 1920 г. двух продразверсток. Согласно второй из них, введенной в соответствии с декретом Совнаркома от 20 июля 1920 г., Сибирь должна была сдать абсолютно все излишки продовольствия, которые Нар-компрод определил в 110 млн пудов хлебофуража. На это требование сибирская деревня ответила серией вооруженных выступлений, которые произошли в 16 уездах, т. е. примерно в трети таких административно-территориальных единиц. В общей сложности в восстаниях 1920 г. приняло участие примерно 27–35 тыс. чел. В рядах повстанцев имелись представители всех слоев крестьянства: старожилы и новоселы, кулаки, середняки и бедняки. В противовес коммунистическому режиму они выдвигали разные варианты государственного устройства. Наиболее распространенным в их рядах был лозунг «Долой коммунистов, да здравствует Советская власть!» [Шишкин, 1995, с. 126, 130–134].
В этом лозунге впервые четко противопоставлялись друг другу коммунисты и Советская власть. Такое противопоставление отражало представления значительной части сибирского крестьянства, которая отличалась пониманием государственного устройства, высокой социально-политической активностью и предполагала превратить Советы без коммунистов в органы народного самоуправления. Как следствие, сельские коммунисты и советский актив стали главными объектами преследования и террора со стороны повстанцев и деревенских верхов.
В свою очередь, сельские комячейки, организованные в отряды ЧОН, превратились не только в наиболее надежную вооруженную опору Советской власти на местах, но и в инструмент принуждения держателей продовольственных излишков при сборе разверстки. Выполнение этих функций вознаграждалось посредством внутриволостного перераспределения. Так называлось снабжение сельских коммунистов и советских работников продовольствием, изъятым ими у кулаков и середняков в счет разверстки (Перимов, 1921, с. 13; Ходоровский, 1921, с. 5). В результате в сибирской деревне, особенно в Алтайской и Енисейской губерниях, сложился довольно внушительный слой населения, состоявший из нескольких сотен тысяч батраков и бедняков, которых устраивал такой порядок. Эти люди ощущали себя полновластными хозяевами сибирской деревни. Скорее всего, в их представлении идеальной моделью настоящей Советской власти являлся «военный коммунизм».
Прямо противоположной была позиция большей части хозяйственных крестьян. Они в принципе считали разверстку неприемлемой мерой, а принудительные методы, применявшиеся при ее сборе, недопустимыми. Масштабы сопротивления населения безвозмездному изъятию продовольствия Советская власть сдерживала, жестоко подавляя силой оружия открытое сопротивление и осуществляя террор по отношению к саботажникам и несогласным.
Масштабы и опасность антикоммунистического повстанческого движения в начале 1921 г., в том числе в Сибири, вынудили руководство РКП(б) пересмотреть продовольственную политику. 15 марта 1921 г. X съезд партии принял постановление о замене разверстки продналогом. Для большинства членов РКП(б) и тем более обыкновенных граждан это решение было полной неожиданностью. Оно являлась существенным изменением не только советской продовольственной политики, но и Советской власти как таковой, ее взаимоотношений с разными категориями крестьян. Естественно, разные группы крестьянства по-разному восприняли эти изменения.
В Сибири новации в продовольственной сфере первыми ощутили на себе крестьяне тех уездов, которые разверстку выполнили или были близки к ее выполнению. В конце марта 1921 г. Сибирский революционный комитет, являвшийся высшим органом Советской власти в Сибири, по рекомендации Сибирского бюро ЦК РКП(б) отменил разверстку в Иркутской губернии и в 10 уездах других губерний, где ее сбор составил больше 75 % (Советская Си- бирь. 1921. 1 апр.) 3. Оставшиеся у крестьян этих уездов излишки хлеба было разрешено продавать, покупать и обменивать на базарах и рынках.
Согласно директивам ЦК РКП(б) и Совнаркома в остальных уездах Сибири продразверстка сохранялась. Как признавало Сиббюро ЦК, эти указания «выполнялись даже в тот момент, когда и методы его осуществления, и самый принцип разверстки оказались [в] непримиримом противоречии с изменившейся в связи с новой экономической политикой общей обстановкой. Выполнения этого задания не останавливало даже частичное осложнение отношений с крестьянством…» 4.
Продолжение взимания разверстки на значительной части территории Сибири при официальной ее отмене верховными партийными и советскими органами обострило недоверие к проводимой Советской властью политике, привело к окончательной потере ее авторитета в глазах большей части хозяйственных крестьян. Причем главную роль в проведении такой политики эти крестьяне отводили коммунистической партии. В информационной сводке Дорожной транспортной чрезвычайной комиссии Томской железной дороги за 1–15 мая 1921 г. сообщалось: «Крестьянин, не сознавая необходимости той или иной разверстки и не уясняя ея смысла, а главное, не видя никакого вознаграждения за ее выполнение, невольно и с явным злым умыслом определенно высказывает свое неудовольство, негодуя на сложившуюся жизнь и обстановку, и в данный момент виновником всех невзгод считает существующую Советскую власть, но не так “Советскую”, как власть коммунистов, строго подразделяя одну от другой» 5. Следствием такого понимания властной структуры стало резкое сокращение крестьянами площади посева.
Вслед за отменой продразверстки партийно-советское руководство Сибири потребовало прекращения внутриволостного перераспределения. Такое решение лишило деревенские низы главного источника продовольствия и обрекло их семьи на голод. Со стороны сельских коммунистов и советского актива возникло острое недовольство как такой политикой, так и самой властью. К этому возмущению прибавилось негодование на недостаточно жесткую политику Советской власти по отношению к контрреволюционным элементам и уклонившимся от выполнения разверстки, на допущение торговли и товарообмена сохранившимися у них излишками.
Конец 1920 – начало 1921 г. ознаменовались в Сибири серией уголовных преступлений со стороны сельских коммунистов, чоновцев, сотрудников ВЧК и милиции, выразившихся в незаконных арестах и бессудных расправах над десятками неугодных им людей. В партийном руководстве такие действия получили название «красного бандитизма». Летом 1921 г. он принял массовый характер. Невзирая на запрещение со стороны вышестоящих партийносоветских органов, деревенские комячейки продолжали конфискацию и реквизицию обнаруженных ими излишков, занимались их перераспределением, препятствовали проведению товарообмена. Такое поведение сельских низов квалифицировалось как антикоммунистическое. Оно грозило сорвать новую продовольственную политику, превращало сельских коммунистов из недовольных в резко политически враждебных Советской власти [Шишкин, 1992, с. 5–29] 6.
Летом 1921 г. партийные верхи Сибири приступили к разъяснению населению значения нового продовольственного курса и его важности для крестьянства. Однако он плохо усваивался малограмотным деревенским населением, в том числе коммунистами. Некоторые из них в знак протеста выходили из партии, другие ограничились словесным выражением недовольства, третьи открыто нарушали законы. Крестьяне Ачинского, Канского и Славгород-ского уездов, являвшихся в 1919 г. районами массового антиколчаковского партизанского движения, с самого начала кампании выказывали нежелание выполнять продналог. Партий- ное руководство Сибири и губерний, особенно Алтайской, отмечало, что испытывает давление «крестьянских настроений» 7. Что касается хозяйственных крестьян, то они признавали положительное значение замены разверстки продналогом в принципе, но свое окончательное отношение к нему откладывали до проверки на практике.
Назначенный на Сибирь продналог составил 38 млн пудов хлебофуража. Он был на 30,7 % меньше, чем собранная разверстка, но оказался тяжелее ее. Выполнять налог пришлось из урожая текущего 1921 г., который был ниже среднего. В расчете на десятину посева налог оказался даже немного больше разверстки. Высокую цифру продналога на Сибирь центральные органы власти объясняли неурожаем и голодом в Поволжье.
Руководство Сибири не рассчитывало на то, что крестьяне добровольно сдадут причитавшийся с них налог или сделают это под влиянием только мер убеждения. Напротив, оно изначально готовилось к сопротивлению со стороны налогоплательщиков и всемерно укрепляло продорганы мобилизованными городскими коммунистами и членами профсоюзов. В помощь продаппарату выделили части Красной армии и войск внутренней службы, отряды ЧОН, милицию, выездные сессии ревтрибуналов и народных судов.
По оценке руководства Сибири, до декабря 1921 г. поступление продналога обеспечивалось применением агитационно-пропагандистских мер в совокупности с принуждением и репрессиями, осуществлявшимися в основном в рамках законности. Но с декабря сбор продналога осуществлялся под нажимом, «переходившим всякие пределы» 8. Всего в Сибири по продналогу было заготовлено 35,0 млн пудов хлебофуража, что составило 96,6 % от окончательного установленного Центром задания (Продовольственный бюллетень. 1922. № 21– 23, с. 14).
В отличие от разверстки продналог назначался на все слои крестьянства, включая его беднейшую часть. Такое требование оказало заметное влияние на представления о Советской власти тех, кто являлся ее социальной опорой в деревне, вызывало их недовольство. Отдельные сельские ячейки РКП(б) в вопросе о сборе продналога проявили колебания, а в Канском уезде саботировали его выполнение. Не только в селах и волостях, но и в отдельных уездах получила распространение незаконная практика перекладывать часть налога с бедняцких хозяйств на кулацко-зажиточные.
В соответствии с указаниями партийно-советского руководства и деятельностью местных органов власти, преимущественно коммунистических по своему составу, основная тяжесть продналога в Сибири легла на кулацкие и зажиточные хозяйства. «Безусловно, – считало Сиббюро ЦК РКП(б), – крупные хозяйства Сибири [в] этом году будут влачить жалкое существование» 9.
Продналоговая кампания в Сибири протекала в обстановке острого противоборства между налогоплательщиками и органами государственной власти, перевес в котором был на властной стороне. В целях принуждения крестьян к сдаче налога было проведено 1 871 заседание сессий ревтрибуналов и народных судов, которые рассмотрели около 16 тыс. дел. Примерно 15 тыс. из них закончились обвинением неплательщиков [Крестьянство Сибири…, 1983, с. 104]. Приговоры носили суровый характер: конфискация части или всего имущества, лишение свободы с применением принудительного труда на шахтах или лесозаготовках, высылка в отдаленные районы, высшая мера наказания. Наиболее суровые приговоры выносили кулакам и отказывавшимся сдать налог.
В то же время массовый характер приняли злоупотребления продработников и содействовавшего им местного партийно-советского актива. Они устраивали концлагеря, заключали неплательщиков в неотапливаемые помещения, имитировали расстрелы. Фактически по методам сбора продналог в Сибири мало чем отличался от предшествовавшей ему разверстки.
Все это сформировало у многих крестьян резко негативный образ существующей власти. В марте 1922 г. жители одного из сел Частоостровской волости Красноярского уезда так отзывались о деятельности побывавшего у них продотряда: «Колчак и тот не поступал так сурово с нами, как поступает наша Советская власть, [власть] рабочих и крестьян» 10. «Дождались Советскую власть, нашу избавительницу, что прямо хоть в петлю полезай», – вторили им жители Енисейского уезда 11.
В 1922–1923 гг. вместо продналога с крестьян взимался единый натуральный налог (ЕНН). Осенью 1922 г. в большинстве районов Сибири собрали более высокий, чем в 1921 г., урожай, а размер налога, напротив, был назначен меньше предыдущего. Борьба за выполнение ЕНН началась задолго до его объявления, еще летом, на стадии выявления и составления списков объектов обложения. Так как выяснилось «отчаянное сопротивление налогу кулацких элементов деревни, выразившееся [в] массовом укрывательстве объектов обложения», то эта работа была объявлена «ударной» 12.
В деревню было направленно 33 сессии ревтрибуналов. До 21 августа на налогоплательщиков было наложено 1 646 взысканий судебным порядком и 7 333 административным, на должностных лиц – 291 судебное взыскание и 700 административных. В некоторых случаях списки составлялись по 3–4 раза. Удалось выявить 6 506 тыс. десятин посева, тогда как контрольная цифра, назначенная Наркомпродом, равнялась 7 693 тыс. десятин 13. Последнее означало, что на стадии сбора ЕНН предстоит еще один раунд упорной борьбы.
Для выполнения задания Центра по сбору пшеницы, ржи, а также зернофуража с конца сентября на полную мощность заработал аппарат принуждения и наказания неплательщиков и сельских советских работников. В Алтайской, Енисейской, Омской и Томской губерниях дело дошло до применения вооруженной силы: продотрядов, проддружин и частей Красной армии. Особенно жестокие меры по отношению к населению, выходившие за рамки законности, были применены в Рубцовском и Славгородском уездах [Савин, 2006].
К концу ноября 1922 г. задание по сбору ЕНН в Сибири было выполнено. В счет налога сибирские крестьяне сдали около 39 млн пудов зерна. С большим напряжением и со значительным ущербом для своего хозяйства его выполнили в Енисейской, Иркутской, Томской и Новониколаевской губерниях. Крестьяне Алтайской и Омской губерний, чтобы выполнить ЕНН, были вынуждены распродавать тягловый скот и сельхозинвентарь. Часть жителей ликвидировала свои хозяйства и покинула места прежнего проживания. Произошло обеднячива-ние сибирской деревни.
Короткий срок, в который был выполнен ЕНН, объясняется осознанием крестьянами бесперспективности сопротивления и желанием как можно скорее избавиться от навязанного государством долга. Неудивительно, что у пострадавших от ЕНН крестьян сохранялся негативный образ Советской власти, сформировавшийся у них в предыдущем году. «Соввласть хуже колчаковской: она грабит и замучила крестьян налогами!» – утверждали участники сельского схода, состоявшегося 28 апреля 1923 г. в с. Троицком Канского уезда (Советская деревня, 2000, с. 101).
Традиционные для деревни и одновременно поддерживаемые партийно-советской пропагандой ожидания, что власть является защитницей трудящихся крестьян, находились в явном противоречии с их личным опытом, свидетельствовавшим о незаконных арестах и бессудных расстрелах, о принуждении к сдаче необоснованных налогов, незаконной конфискации имущества и другим произволом на местах. Это обстоятельство стало объективной предпосылкой для усложнения представлений значительной части крестьян о Советской власти.
Считая злоупотребления плодом деятельности только низовых партийно-советских работников, многие крестьяне наивно верили в то, что верховная власть совсем иная, что она не только сильная, мощная, но и мудрая, справедливая. Об этом свидетельствуют тысячи жалоб и заявлений, направленных сибирскими крестьянами в начале 1920-х гг. в различные партийные и советские инстанции. Выражение недовольства крестьяне то и дело сопровождали «покорнейшими просьбами», которыми пытались, с одной стороны, пробудить в представителях власти сочувствие, милосердие и сострадание, с другой – добиться справедливого наказания допустивших злоупотребления и нарушивших законность (Письма во власть…, 2020, с. 43–44, 46–47, 52–54, 60, 76–78, 80–82).
Почтительное отношение крестьян, которые обращались к представителям верховной власти, подкреплялось их верой в то, что находившееся в Москве партийно-советское руководство не имеет объективной информации о ситуации на местах. С одной стороны, такое объяснение намеренно поддерживалось среди населения органами агитации и пропаганды, с другой – циркулировало в деревнях в виде слухов.
Похоже, что аналогичные представления о советской властной вертикали как имеющей добрые, но плохо информированные «верхи» и злобные, но агрессивные «низы» было в Сибири довольно широко и продолжительно распространено. Например, в сводке Енисейского губернского отдела ОГПУ по состоянию на 15 июля 1925 г. приводится мнение граждан дер. Таскина Сухобузимского района Красноярского уезда: «Высшая то власть нам помогает, а низшая власть старается нас задавить» 14. Такое объяснение помогало некоторым крестьянам примирить в своих представлениях привлекательный образ Советской власти с той, какую они наблюдали в реальной жизни.
Конечно, правившие партийно-советские «верхи» не знали всего того, что творилось на необъятных просторах России и Сибири. Но они хорошо понимали, что реальной властью на селе являются не избранные крестьянами Советы и волисполкомы, а ячейки РКП(б), состоявшие из политически неграмотной и малограмотной бедноты и действовавшие в соответствии со своими интересами и пониманием обстановки. Вот что говорил 21 апреля 1922 г. такой хорошо информированный человек, как председатель Сибревкома С. Е. Чуцкаев: «В деревне зачастую в силу невысокого уровня развития деревенских комячеек влияние партии проводилось в уродливых формах прямого неприкрытого вмешательства комячеек в работу этих органов, возглавления их коммунистами без особой в том нужды, даже подменой выступления соворганов выступлениями комячеек» 15.
По оценке Сиббюро ЦК РКП(б), почти всю первую половину 1920-х гг. политическая ситуация в сибирской деревне продолжала оставаться сложной и неустойчивой. Но «ахиллесовой пятой» являлись сельские комячейки. В отчете Сиббюро ЦК за апрель 1923 – апрель 1924 г. говорится: «<…> В ряде ячеек еще не изжиты настроения 1919–[19]20 гг. и продолжают применяться административные методы работы; есть места, где ячейки еще продолжают пользоваться резко отрицательным отношением со стороны крестьянства» (Известия. 1924. № 69–70, с. 11).
По схеме, рекомендованной Сиббюро ЦК РКП(б) в феврале 1921 г., местные парторганизации провели избирательные кампании в 1921 и 1922 гг. Однако они не смогли добиться желательного результата. 11 мая 1922 г. Сиббюро ЦК признало, что на последних выборах в сельсоветы не прошли не только коммунисты, но даже и лояльно настроенные к Советской власти беспартийные крестьяне. По оценке секретаря Сиббюро ЦК И. И. Ходоровского, высказанной в середине июня 1922 г., «мы фактически не имеем своих советских органов власти в деревне; волисполкомы и особенно сельсоветы только в ничтожной своей части находятся в наших руках, в некоторой части – в руках лояльно к нам относящегося середняцкого крестьянства и в значительной степени – в руках чуждых нам социально и по своему духу слоев деревни».
Главную причину такого провала Сиббюро видело в отсутствии должного внимания к избирательным кампаниям со стороны губернских и уездных комитетов РКП(б) и в пассивно- сти самих сельских коммунистов. Оно потребовало рассматривать выборы в сельские советские органы как «важнейшую политическую кампанию, от успешного проведения которой зависит усиление нашего положения в деревне» 16.
Ситуацию с составом сельсоветов и волисполкомов частично удалось поправить на последующих выборах. Удельный вес членов РКП(б) в волисполкомах заметно увеличился, особенно в Алтайской губернии, достигнув 65 %, в Енисейской, Новониколаевской и Омской губерниях был близок к 50 % (Копяткевич, 1922, с. 16; Известия. 1923. № 57–58, с. 36). Однако редко кто из сельских коммунистов имел хороший собственный дом и крепкое хозяйство, был трудолюбив, знал грамоту и разбирался в текущей политике. Этим объяснялся низкий, за исключением отдельных коммунистов, авторитет большинства членов ячеек РКП(б) среди хозяйственных крестьян.
Положение усугубляло то обстоятельство, что легитимность прошедших в сельсоветы и особенно в волисполкомы членов РКП(б) была исключительно низкой. В их избирании участвовала четверть, в лучшем случае треть крестьян, имевших право голоса. Иначе говоря, коммунисты избирались в сельсоветы и волисполкомы в основном беднотой. В конце 1924 – начале 1925 г., по оценкам партийного руководства Сибири, избирательную кампанию проигнорировали около 80 % крестьян. Первый секретарь Сибирского краевого комитета РКП(б) С. В. Косиор объяснял низкую явку так: «Как правило, сельсоветы никакой работы, кроме сбора сельхозналога, не ведут, а местными делами, нуждами крестьян и вопросами, волнующими деревню, совершенно не занимаются. Поэтому крестьянство смотрит на советы как на органы, только выколачивающие с них деньгу, как на органы, от которых можно ждать только неприятностей» (Косиор, 1925, с. 5).
Некоторые политически активные крестьяне, проявлявшие интерес к перевыборам и лучше разбиравшиеся в сущности советской политической системы, выражали недовольство применявшейся избирательной процедурой. Секретные обзоры и сводки, подготовленные органами ОГПУ в конце 1924 – начале 1925 г., свидетельствуют о категорическом несогласии крестьян с избранием сельсоветов путем голосования по заранее подготовленным спискам: «Нам нечего выбирать, коммунисты без нас уже выбрали», «кандидаты уже подготовлены в конвертах», «выборы в с[ель]с[оветы] прошли против нашего желания», «Соввласть на словах выборная, а фактически назначенская», «в сельсоветы не выбираются, а назначаются карьеристы-коммунисты и Соввласть будет только тогда, когда крестьяне выгонят из Советов этих людей» (Советская деревня, 2000, с. 281) 17.
Составители «Обзора политического состояния СССР за декабрь 1924 г.» констатировали, что среди крестьян имело место «общее недовольство “назначенцами”», и утверждали, что более зажиточные слои деревни агитировали середняков и бедноту за «Советы без коммунистов». Одним из оснований для такого вывода послужило приписываемое сибирским кулакам высказывание: «Мы [–] народ, мы имеем право не только избирать [в Советы], но и перешерстить всю коммунистическую партию» 18. Таким образом, в глазах заметной части сибирских крестьян коммунисты выглядели узурпаторами, захватившими Советскую власть, которая изначально мыслилась ими как власть, призванная защищать интересы городских и сельских тружеников.
Наиболее политически грамотные крестьяне были недовольны тем, что Советская власть оказалась неподконтрольной избирателям. Например, житель с. Маклаковское Красноярского уезда 15 января 1925 г. заявил: «Наше правительство говорит, что действие власти проверяется низовыми массами, а в действительности знает ли хоть один мужик, куда идет собираемый налог, кто сколько получает жалования, что делается в верхах – об этом никому ничего не известно. При царизме мы действительно были хозяева, потому что на волостных сходах сами нанимали служащих и назначали им жалование, и мы тогда знали, что они перед нами ответственны, теперь же нас не спрашивают и перед нами не отчитываются, а только обманывают» 19.
В начале 1925 г. некоторые надежды на улучшение ситуации с Советами в крестьянской среде возлагали на кассацию только что проведенных выборов и назначение на февраль – март 1925 г. повторных выборов. В секретной сводке информационного отдела ОГПУ за 26 марта – 1 апреля 1925 г. крестьянам Новониколаевской губернии приписывались следующие высказывания: «Мы должны ни одного коммуниста в совет не пропускать, довольно с них, отцарствовали», «Настанет март месяц и мы всех коммунистов из с[ель]с[оветов] выбросим и выберем своих», «Мы в Решетах с нетерпением ждем выборов, тогда начнем вывозить коммунистов в болото и на свалку», «Сейчас будет правильно, если власть даст возможность свободно произвести выборы; мы, крестьяне, должны быть всему хозяева и сами избирать в совет» 20.
С точки зрения партийно-советского руководства, перевыборы продемонстрировали демократический характер Советской власти. В теории это должно было упрочить позиции Советской власти и коммунистической партии в деревне. Однако вскоре выяснилось, что перевыборы не привели к сколько-нибудь существенным изменениям ни в жизни, ни в представлениях крестьян. На протяжении 1925–1926 гг. органы ОГПУ продолжали фиксировать высказывания «за Советскую власть, но против непролетарских руководителей-коммунистов» 21.
Особое недовольство выражали крестьяне, принимавшие участие в гражданской войне. Наблюдая явное расхождение между текущей политикой Советской власти и теми обещаниями, которые давали большевики в ходе революционной борьбы, эта часть крестьянства испытывала объяснимое разочарование. В феврале 1928 г. бывший партизан с. Дубровка Алейского района Барнаульского округа заявил местному сельсовету: «Вот, товарищи, вспомните, сколько мы пролили крови и понесли жертв, завоевали себе свободу и раскрепостили мужика. Но оказалось, что эта свобода нам на шею, жмут нас, угнетают тверже прежнего, изыскивают всякие способы, дабы душить мужика» (Советская деревня, 2000, с. 692).
В ряде случаев крестьяне давали очень точные и образные характеристики Советской власти и ее политике. В сводке о политических настроениях крестьян Красноярского района на 26 февраля 1928 г. зафиксировано такое суждение члена сельсовета бедняка Кузнецова: «Советская власть поступает с нами так, как крестьянин с тальником: обрубит у него сучья на пестери и корзины и оставит в покое года на 3, [зная], что тальник обрастает вновь; так и Советская власть в [19]20–[19]21 году отобрала у нас всё, зная, что мы обрастем <…>» 22.
Особенно сильно на настроение и поведение хозяйственных крестьян повлияла новация в советской заготовительной политике, которая стала применяться после того, как Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин 18 января 1928 г. на заседании Сибкрайкома ВКП(б) поддержал его решение применять 107 статью Уголовного кодекса РСФСР к кулакам главным образом за «невыпуск» хлеба на рынок. О том, как отреагировали на это новшество «крепкие» хозяева, сообщил И. В. Сталину В. Г. Яковенко, бывший в 1922 – первой половине 1923 г. наркомом земледелия РСФСР, который июль – август 1928 г. провел в деревнях Тасеевского и Рождественского районов Канского округа. Один из главных выводов, сделанных В. Г. Яковенко, звучал так: «У мужиков преобладает мнение, что Советская власть не хочет, чтобы мужик сносно жил» (Известия ЦК. 1991. № 7, с. 188).
Ответ со стороны «крепких» крестьян насчет того, как они относятся к Советской власти, не заставил себя долго ждать. В 1928–1929 гг. органы ОГПУ зафиксировали в разных округах Сибири следующие высказывания крестьян: «…придется идти войной на Советскую власть – голодным ничего не страшно» (Красноярский округ), «дотерпятся мужики, что возьмут пики и пойдут воевать против этой власти» (Каменский округ), «скоро будет переворот» (Ачинский округ), «взяться за пики и пойти партизанить» (Барабинский округ), «выход один – насаживать литовку на черен[ок] и поднимать восстание, потому что сама власть вынуждает на это» (Каменский округ), «крестьяне сами поднимут восстание против коммунистов» (Канский округ) (Советская деревня, 2000, с. 751–753, 919). Иными словами, не добившись установления власти Советов без коммунистов ни в результате антибольшевистских восстаний, ни в ходе ежегодных перевыборов Советов, наиболее недовольные существовавшими порядками крестьяне Сибири пришли к выводу о том, что изменить собственное положение они могут только свержением Советской власти.
Проанализированные источники позволяют утверждать, что на протяжении изучавшегося периода у разных социальных групп сибирского крестьянства возникали и существовали различные представления о Советской власти, которые не оставались неизменными, а со временем варьировались.
В конце 1917 – конце 1919 г. существовало несколько групп крестьян, имевших несовпадавшие представления о власти Советов. Одна из них, задававшая тон в организации первых Совдепов, была очень разнородной. Входившие в нее деревенские низы, в том числе маргинальные элементы, отождествляли власть Советов с неограниченной местной властью, главным инструментом которой являлось насилие. Однако большая часть этой группы, состоявшая из бывших фронтовиков и части сельской интеллигенции, видела в Совдепах демократический по происхождению и функционированию властный институт, отвечавший интересам основной массы крестьян. Вторая группа была наиболее многочисленной и состояла из хозяйственных крестьян. Их знания о власти Советов были очень фрагментарными и поверхностными и не позволили сформировать о ней четкое представление. Третью группу составляли зажиточные старожильческие верхи, о представлениях которых можно судить по их активному участию в свержении местных Совдепов летом 1918 г. Причем в конце 1917 – конце 1919 г. у всех названных групп крестьянства представления о власти Советов сформировались в основном самостоятельно, без существенного влияния извне.
Принципиально иначе формировались представления о Советской власти у крестьянства Сибири после установления в ней диктатуры пролетариата. Решающим фактором, который влиял на представления разных слоев крестьянства на протяжении всех 1920-х гг., была политика самой власти и применявшиеся ей практики по реализации этой политики.
В Сибири партия большевиков сразу же сделала ставку на деревенские низы, создав им максимально благоприятные условия для вхождения во властные структуры, включая членство в РКП(б). Прямо противоположную позицию коммунистическое руководство Сибири заняло по отношению к деревенским верхам, ограничив их политические возможности, в том числе участие в работе советских органов. Довольно благожелательно большевики первоначально позиционировали себя по отношению к среднему крестьянству.
Как следствие такой политики РКП(б), у деревенских низов сформировались и до конца 1920-х гг. сохранялись максимально благоприятные представления о советском режиме. Он воспринимался не только как диктатура пролетариата, но и как власть рабочих и трудящихся крестьян. Эта радужная картина частично и ненадолго была омрачена, с одной стороны, недовольством сельских коммунистов мягкой карательной политикой большевиков и отменой ими внутриволостного перераспределения при замене разверстки продналогом и, с другой стороны, эпидемией «красного бандитизма», дискредитировавшего Советскую власть и коммунистическую партию. Но РКП(б) вовремя и умело поддерживала революционный энтузиазм низов, создавая для них искусственные социальные лифты и конструируя новых врагов.
Крайне противоречивыми были представления о Советской власти у середняков. Они восторженно восприняли Советскую власть как освободительницу от колчаковщины, поддержали ее в борьбе против белогвардейцев и интервентов, положительно откликались на мероприятия по социокультурному развитию деревни. Но опора большевиков на батраков и бедноту, безвозмездное насильственное изъятие продовольственных излишков по разверстке и налогу надолго оттолкнули середняков от Советской власти, затушевали ее изначально привлекательный образ. Середняки приняли участие в нескольких вооруженных восстаниях 1920–1921 гг., в которых главным лозунгом было требование выбирать Советы без коммунистов. Игнорирование большинством середняков на протяжении почти всех 1920-х гг. кампаний по выборам в Советы было вторым важным показателем того, какие представления о Советской власти в ее коммунистическом варианте преобладали в середняцкой среде. Такая власть не стала широко популярной, а отношение к ней в основном было осторожно-недоверчивым.
Ограничение политических прав, финансово-экономические притеснения и налоговые перегибы, тотальная дезинформация о действительных позициях деревенских верхов, дискредитация их поведения постоянно использовались партийно-советским руководством Сибири против кулачества. В ответ кулаки саботировали советские мероприятия, терроризировали, избивали и убивали коммунистов и советских активистов, молча ненавидели существующую власть, мечтали о ее свержении. Одновременное пребывание на политической сцене двух таких классово-антагонистических акторов было вынужденным и преходящим. Один из них должен был вскоре уйти.
Список литературы Представления крестьян Сибири о советской власти в годы гражданской войны и новой экономической политики
- Крестьянство Сибири в период строительства социализма (1917-1937 гг.). Новосибирск: Наука, 1983. 389 с.
- Образы российской власти: от Ельцина до Путина / Под ред. Е. Б. Шестопал. М.: РОССПЭН, 2009. 415 с.
- Савин А. И. Кампания по сбору единого натурального налога 1922-1923 гг. в Сибири: "Славгородское дело" // Гуманитарные науки в Сибири. 2006. № 2. С. 60-68. EDN: IIRGNR
- Шишкин В. И. Социалистическое строительство в сибирской деревне (ноябрь 1919 - март 1921 г.). Новосибирск: Наука, 1985. 319 с. EDN: TGHSLX
- Шишкин В. И. Красный бандитизм в советской Сибири // Советская история: проблемы и уроки. Новосибирск, 1992. С. 3-79. EDN: VKORCZ
- Шишкин В. И. Гражданская война в Сибири (1920 г.) // Сибирь в период Гражданской войны. Кемерово, 1995. С. 121-139. EDN: YLKALZ