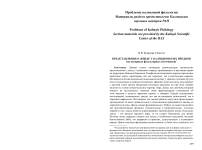Представления о дожде у калмыков и их предков (на материале фольклорных источников)
Автор: Куканова Виктория Васильевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 3 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена реконструкции архаических представлений о дожде у калмыцкого народа, проживающего в настоящее время на территории Нижнего Поволжья. В мифологии калмыцкого народа переплелись архаичные черты, характерные как для тюркских, так и монгольских народов. Метеорологические явления всегда вызывали интерес у древнего человека, будучи чем-то загадочным и сверхъестественным. Древние люди пытались дать наивные с научной точки зрения объяснения погодным явлениям, но при этом стройно вплетая их в свою концептуальную картину мира. Дождь как лингвокультурный концепт не исследовался, имеются лишь фрагментарные упоминания об этом явлении в аспекте народных примет и поверий. Однако полноценных исследований, посвященных дождю, нет как на материале монгольской, так и тюркской мифологии. Источником для данной работы выступили фольклорные произведения. В целях сравнительного сопоставления привлекаются данные из тюркской культуры. Дождь связан функционально с Небом, он может выполнять две противоположные функции: созидательную и разрушительную. Согласно первой из них, дождь является животворящим, производящим жизнь. Поскольку дождь - это продукт верхнего мира, то он служит благодатью для людей. Поэтому люди старались попасть под дождь, в особенности весенний, несущий благословение Неба, что выражено в приметах, существующих у калмыцкого народа. Дождь наделялся функциями целительными, и, более того, считалось, что он мог возвращать мертвых из нижнего мира благодаря уникальному его свойству проникать в разные, не заметные глазу щели, разломы, что определенно отражено в эпосе «Джангар». Но при всех положительных функциях дождь мог выступать как наказание для людей, что основано на страхах как древнего, так и современного человека. Такое восприятие исходит из существования природных явлений на границе и потенциальной их возможности в одночасье превратиться в стихийное бедствие. Калмыки верят, что дождь, переходя в наиболее интенсивную стадию, в грозу, - мог погубить человека и его хозяйство. По этой причине люди старались задобрить Небо, чтобы дождь не становился грозой с молнией и громом.
Дождь, архаичная картина мира, фольклор, целительный дождь, животворящий дождь
Короткий адрес: https://sciup.org/149139249
IDR: 149139249 | DOI: 10.54770/20729316_2021_3_469
Текст научной статьи Представления о дожде у калмыков и их предков (на материале фольклорных источников)
Реконструкция картины мира (под которой понимается «совокупность знаний о действительности, сформировавшуюся в общественном сознании» [Попова, Стернин 2007, 4]) является одной из актуальных научных задач, поскольку мир видится по-разному в зависимости от многих факторов и обстоятельств, влияющих на человека. Исследование же архаичной картины мира «позволяет понять не только “истоки и корни” современных моделей организации мира во времени, но и некоторые принципы их построения» [Неклассическое наследие 2011, 17].
До настоящего времени метеорологические концепты на материале калмыцкого языка, в том числе и концепт «дождь», который выступает объектом данного исследования, не рассматривались как элементы картины мира в отличие от тюркских языков [Сравнительно-историческая грамматика... (далее СИГТЯ) 2001, 13-49; СИГТЯ 2006, 352-371; Нормановская 2008; и др.], хотя концептосфера «погода» служит важным сегментом национальной картины мира. Метеорологические явления всегда вызывали интерес у древнего человека, воспринимаясь в качестве чего-то загадочного и сверхъестественного. Древние люди пытались дать наивные с научной точки зрения объяснения происхождению природных явлений, при этом стройно вплетая их в свою концептуальную картину мира. Дождь как лингвокультурный концепт не исследовался, имеются лишь фрагментарные упоминания об этом явлении в аспекте народных примет и поверий. Однако полноценных работ, посвященных представлениям о дожде, не имеется как для монгольской, так и для тюркской мифологии. [Здесь уместно привести работу Ю.В. Нормановской [Нормановская 2008], которая посвящена реконструкции пратюркской системы на материале номинаций метеорологических явлений]. Цель данной работы - выявление общих архаичных представлений о дожде у калмыков и их предков, которые имеют много общих черт в сравнении с представлениями тюркских этносов.
2. Материалы и методы исследования
Источником для данного исследования выступили прежде всего фольклорные тексты калмыцкого народа, которые отбирались вне зависимости от того, какой субэтнической группе принадлежали информанты-сказители, поскольку материала в разрезе по субэтносам недостаточно, чтобы проводить какие-либо сравнительные исследования. В целях сравнительного анализа привлекаются данные из тюркской культуры. В работе используется междисциплинарный подход, поскольку концепт изучается на разных типах источников, которые требуют собственных методов и приемов исследования. Междисциплинарный подход позволяет выявить наиболее полную картину представлений калмыков о дожде.
3. Архаичные представления о дожде
Свойства, приписываемые дождю (воде) и выявляемые на материале фольклорных произведений, могут быть выведены из непосредственно наблюдаемых качеств [Апресян 1997, 272-273 - цит. по: Неклюдов 2002, 22]. Концепт дождя весьма близок концепту воды, по этой причине свойства и качества этих двух объектов во многом пересекаются. Как отмечает С.Ю. Неклюдов, «мифологическая семантика определенного признака невычислима из сюжетных обстоятельств, она раскрывается только в контексте более широкого “знания традиции”, далеко выходящего за пределы знания отдельного ее представителя и знания, отраженного в отдельном входящем в нее тексте» [Неклюдов 2002, 24].
3.1. Связь с верхним миром
В культуре монгольских и тюркских народов существуют представления, что пространство разграничивается горизонтально и вертикально. Последнее заключается в том, что мир подразделяется на три части (нижний, срединный и верхний миры). Представление о трех мирах характерно для тюрко-монгольской общности [Традиционное мировоззрение 1988, 16; СИГТЯ 2006: 583-591, 665-733]. Подобная мифологическая модель мира находила отражение в вещах, окружающих человека: жилище [Жуковская 1988, 14-23; Бакаева, Сангаджиев 2005, 30], одежда [Дашковский, Карымова 2012, 136], украшения [Шагланова 2005, 18], деревья [см., например: Митиров 1980, 259-264; Хейчиева 2017], гора [Манджиева 2010, 62; Матуева 2010, 22] и т.д.
Как и все номинации атмосферных явлений, дождь «своей направленностью от неба к земле связывает верхний мир со средним» [СИГТЯ 2006, 666]. Более того, он может проникать в нижний мир. Люди верили, что вода, появившаяся на земле, и вода, шедшая с небес в виде дождя, имеет одно происхождение, а именно из верхнего мира, продукт «абстрактной, регулирующей силы, олицетворяющей разум и высшую справедливость», - Неба [Лхагвасурэн 2012, 12]; ср.: [Чимитдоржиева 2013,292].
Так, в мифе о сотворении мира говорится, что вода на земле появилась из дождя, который образовался из тучи на небе.
«До сотворения нашей планеты превыше воздушной сферы существовало неизмеримое пространство, пустота (хоосун). В этом неизмеримом пространстве творческою силою с десяти сторон (т. е. с востока, запада, севера, юга, северо-востока, северо-запада, юго-востока, юго-запада, сверху и снизу) подул сильный ветер, который нагнал множество облаков, сплотнившихся в громаднейшую тучу. Туча испустила сильнейший дождь, от которого образовалось величайшее бездонное море, носившееся в воздухе и только им поддерживаемое. Море имело форму сердца, почему и вода в нем называлась златосердечною (алтын дзюркэту усун)».
[Смирнов 1999, 57].
Этот пример хорошо демонстрирует фундаментальную идею о присутствииНебаво всем, в том числе и в атмосферных осадках. Не случайно существуют поверья о родниках, дарующих исцеление [Содномпилова 2009, 18, 115-118]. Частица сакрального (сверхъестественного) как абстрактной чудодейственной силы содержится и в воде. Более того, из воды состоит огромное количество живых существ, в том числе и в человеческом организме имеется это химическое соединение.
Необходимо отметить, что в калмыцком материале не обнаружено ни одного примера, где дождь был бы наделен антропоморфными свойствами (физическими и / или эмоциональными); в сказках некоторых тюркских народов встретились сюжеты, где дождь предстает как живое существо. Например: в башкирской сказке, когда старик пытается выдать дочь замуж за самого сильного на свете. Этот сюжет очень близок калмыцкой сказке о селезенке [Бардаев, Кирюхаев 1993, 148]. В башкирском источнике старик, двигаясь от одного персонажа к другому, выясняет, кто сильнее. Среди этих персонажей имеется и Дождь, который отвечает, что, если бы он был силен, земля не выпивала бы его до капли [Башкирское народное творчество 1992, 126].
3.2. Животворящий дождь
Вода, дождь, поскольку имеют сверхъестественное происхождение, обладают теми же функциями, что и Небо, - созидательность и в то же время разрушительность, два противоположных свойства. В пример можно привести огромное количество фрагментов сказок, эпоса, свидетельствующих об этой функции воды. Так, например, в мифе земля, луна, солнце, аршан [нектар, священный напиток, святая (живая) вода] появились из творящей мир воды:
«Давно это было. Хан тенгриев и хан асуров, гуляя по небу, посмотрели вниз - там, кроме океанов и морей, ничего не было видно*.
Хан тенгриев предложил: “А что если посреди этого океана сотворить Землю?”. “Если сотворить Землю, будет очень хорошо”, - согласились все. Бурхан Багши одно из своих воплощений обратил в черепаху и спустил в воду. Бурхан Багши выстрелил в неё сверху - черепаха опрокинулась на спину. [Так] на животе* черепахи и была сотворена Земля. Когда хан асуров и хан тенгриев вдвоём спустились на Землю, какой-либо жизни не было на ней* - кругом царила тьма.
Тогда стали [они] процеживать воды океана. Когда процеживали, появилась Луна на серебряной повозке с запряженной в нее белой лошадью. Хан тенгриев сказал: “Смотри-ка, надо ночи светлее сделать”. Сказав так, он повелел Луне, не сбиваясь с пути, двигаться вокруг Земли и отпустил ее.
Когда хан тенгриев и хан асуров продолжили процеживать воды океана, появилось золотое Солнце на повозке, запряженной тройкой соловых коней. Хан тенгриев сказал: “Смотри-ка, Землю [надо осветить дневным светом]”. Солнцу, дарующему Земле свет дневной, согревающему вс! живое теплом, он повелел: “Тонкими лучами своими* Землю освещай”, - так сказав, отправил его.
Когда снова хан тенгриев и хан асуров стали процеживать воды океана, появился сосуд с бессмертным аршаном».
[Мифы... 2017, 33].
Вода (дождь) в двух приведенных выше мифах (особенно в первом тексте, когда дождь образовал океан без дна, но при этом имеющий форму сердца) является хаосом, который имеет потенцию созидания, творчества, жизни, развития. «Образ моря (океана, речки, просто воды) как нельзя лучше иллюстрирует хаотичность и бесформенность нарождающегося мира, его текучесть и податливость. Вода - наиболее емкий символ хаоса, который предстоит разъять, для того чтобы упорядочить, превратить в Космос. Бесформенное таит в себе будущие формы, оно чревато новой жизнью» [Сагалаев 1992, 25]. Ср.: «Она (вода. - В.К.) аморфная, бесструктурная, вездесущая и всепроникающая (окружает сушу со всех сторон, проступает из-под земли, льется с неба). Отсюда - представление о воде как о стихии хаоса, в том числе первозданного, о “мировом океане”, со всех сторон обволакивающем космос» [Неклюдов 2002, 22].
Возможно, здесь представлено одно из архаичных представлений калмыков о дуальности мира - неба и земли, которое затем сменилось представлением о трехмирии (верхний, срединный, нижний). При этом вода становится символом хаоса, в котором, однако, содержатся предпосылки для создания мира. Ведь черепаха, хоть и является одним из воплощений хана тенгриев (древнее наслоение буддийских верований), но все же была отправлена в воду, где хан тенгриев убил ее.
Интересно, что в этом мифе Луна и Солнце произошли из воды, из холодной субстанции, при этом они не являются четко выраженными антагонистами, хотя и родились из одного «чрева». [Чуть позже, вероятно, появились поверья, что солнце состоит из стекла и огня, а луна - из стекла и воды [Эрдниев 1980, 259], т.е. согласно этим верованиям, луна и солнце - это полярные антагонисты (огонь - вода), в результате их противоборства или взаимного дополнения (?) создается мир]. Но противопоставляются они по-особому: во-первых, у Луны цвет лошади -белый, а у Солнца цвет лошадей - соловый; во-вторых, у Луны - повозка серебряная (примечательно, что серебро у калмыков более почитаемый металл, нежели золото), а в описании Солнца опущена эта деталь, но само оно золотое; в-третьих, у Луны - одна лошадь, у Солнца - три. Так, через детали мифологических персонажей противопоставляются Луна и Солнце. Универсально, типологично их изображение: в мифе их «рождение» описывается следующим образом. Луна и Солнце появляются 474
в повозке, которая была запряжена одной лошадью и тройкой лошадей соответственно (однако, например, в древнегреческом мифе повозка Луны запряжена быками, а повозка Солнца - четырьмя крылатыми конями). Образ такой повозки встречается в мифах многих народов: древних греков, китайцев (только там было 10 солнц), индийцев (индуистов), персов и др. Солнце и Луна изображались антропоморфными существами, что соответствует представлениям, которые уходят в глубокую древность, когда люди не отделяли себя от природы и считали, что у всего есть душа (хотя не все народы следовали этим верованиям). Луна и Солнце возникли из океана, из воды как животворящей силы и, видимо, являются сиблингами (?), но не мужем и женой, как в более поздних мифах. Из мифа не понятно, к какому полу принадлежали Луна и Солнце, поскольку в калмыцком языке нет грамматических показателей рода. Поэтому из контекста не ясна их гендерная принадлежность. Примечательно также, что первой из воды появляется Луна, что делает ее старше Солнца и, следовательно, главнее, при этом она обладает способностью умирать и возрождаться каждый месяц. Приведем еще один фрагмент мифа, где представления о Луне более сложные, чем о Солнце: «Солнце, по учению буддистов <...> состоит из огненного хрусталя. В поперечнике имеет пятьдесят одну милю, в окружности сто пятьдесят три, а в толщину шесть миль. Движение его зависит от воздуха, которым оно будучи гонимо, обтекает в сутки четыре больших тиба. Луна огненных элементов не содержит, состоит же из водянистого хрусталя. Толщиною она равняется солнцу, а в поперечнике меньше его лишь на одну милю. Во всех других отношениях луна чуть ли не превосходит солнце, изобилуя чистейшими водами и дивными растениями» [Смирнов 1999, 56].
Этот мотив уходит своими корнями также в глубь веков. Луна считалась «покровительницей времени» [Лхагвасурэн 2012, 21], ведь древний человек мог измерять временные циклы с помощью луны, и не случайно, что у монгольских народов имеется множество традиций, запретов, примет, связанных с фазами луны. Вероятно, это более древнее поверье, поскольку, как считает Э. Лхагвасурэн, затем возник культ Солнца как источника жизни на земле, а еще позже лунно-солярный и солярнолунный культ был заменен культом Неба [Лхагвасурэн 2012, 12]. Те или иные элементы этих культов можно найти и в калмыцкой культуре (см., например: [Бакаева 2003: 66, 107, 120, 164 и сл.]; [Шараева 2011: 36, 123, 125, 164 и сл.]).
Интересно, что любой фольклорный текст являет собой сочетание разных временных слоев, иными словами, он полистадиален, и в этом мифе как нельзя лучше представлено наслоение исторических периодов. Здесь упоминаются лошадь и повозка (колесница), одомашнивание и появление которых относится к разным историческим периодам. В то же самое время имеется и буддийское влияние, что выражается в том, что хан тэнгриев превратил одно из своих воплощений в черепаху. Это более позднее по времени воздействие на текст.
Древнее верование в животворящую силу дождя объясняется многочисленными наблюдениями предков, которые не раз видели, что земля преображается после дождей. «Теплый дождь оплодотворял землю, глоток воды возвращал путнику бодрость. Эти свойства распространялись на любую влагу, будь то материнское молоко или мужское семя» [Сагалаев 1992, 84]. Здесь также уместно привести в пример случай, произошедший с В.М. Бакуниным, который бывал часто по поручениям Коллегии иностранных дел в калмыцких степях и стал свидетелем того, что пребывавший уже в преклонном возрасте Аюка-хан, попав под внезапный проливной дождь, снял свойголовнойубор,асопровождающие его остались в шапках. На вопрос «Зачем он это сделал?» хан ответил, «... что он сие делает не для того, чтоб шапки жалел, но для того дабы низпосылаемая чрез дождь, по его мнению, с небеси благодать чувствительным образом тела его касалась» [Батмаев 1993,196]. Считалось, что женщине «в старину не полагалась выходить из дому без головного убора, а то пойдет дождь» [Ользятиева 2003, 25]; см. также [Борджанова 1999, 22]. Не ясно, почему имеется такое гендерное и статусное противопоставление, но очевидно, что оно есть. Возможно, что оно связано, во-первых, с верой в божественное происхождение людей белой кости, которым было позволено в некоторых случаях снимать головной убор. Во-вторых, поскольку голова человека соотносилась с верхним миром, появление на людях без головного убора было неприличным, в особенности для женщин, что, видимо, могло вызвать дождь как наказание. Возможно, описанный В.М. Бакуниным случай происходил весной, когда, согласно представлениям монгольских народов, небо дарует благодатный дождь людям [Лхагвасурэн 2012, 15].
В калмыцкой сказке «Юноша-мудрец» сыну хана дочерью Хана Воды был подарен блестящий четырехгранный кусок металла - после того, как он помог людям, живым существам, страдающим от отсутствия воды:
«Поскакал он дальше, и вскоре, уже не помня о времени и расстоянии, которое он проехал, прибыл он в родной нутук и увидел неприглядную картину.
Оказывается, в этих краях была сильная жара, из-за которой случились все несчастья. В реке исчезла вода, животные вымерли от жары. Трава же в степи совсем сгорела. Увидел он еле живого отца, которого бросили два старших сына, а сами вместе со своими семьями откочевали. Сильно разозлился он на старших братьев. Затаил на них обиду из-за того, что они оставили умирающего отца одного. Отправился он к старому колодцу, зачерпнул кое-как воды и напоил старого отца.
Сам подумал о том, что в родном нутуке, кроме него, не осталось никого, кто бы мог помочь сирым и убогим и сделать так, чтобы колодцы, реки и озера опять наполнились водой, а на лугах выросла густая трава. Вдруг юноша вспомнил о даре дочери Хана Воды. Положил он четырехгранную железку на ладонь, стал он лицом в сторону восхода солнца и ударил он молоточком по ней четыре раза. И после этих ударов тут же над нутуком разразился сильный дождь, который лил долго, а после долгожданного дождя выглянуло солнце. Степь зазеленела густой 476
травой. Люди, потерявшие всякую надежду на лучшую жизнь, воспряли духом. И с этих пор дожди стали идти часто. Степные колодцы вдоволь наполнились водой».
[Сандаловый ларец 2002, 145]
Здесь описывается обряд вызывания героем дождя (весьма распространенный у тюрко-монгольских народов, веривших, что можно при помощи волшебного камня вызвать осадки, а также ветер), который отличается от тех, которые описаны в работе Э.П. Бакаевой: 1) поднявшись на возвышенное место, произнести магические заклинания и потереть камнем об одежду; 2) задачи, «способные управлять змеями», взяв змею за хвост, опускали ее голову в воду, произнося заклинания [Бакаева 1997], [Бакаева 2009, 62]. Дождь в этой сказке предстает как животворящая сила, способная оживить природу, дать людям надежду и благодать.
3.3. Целительный дождь
Дождь воспринимался калмыцким народом как благодать, наделялся чудодейственными свойствами, в том числе целительными. К дождю относились как к жизненно необходимой субстанции, скотоводам он всегда был необходим, т.к. благодаря ему скудная растительность степной зоны насыщалась живительной влагой и разрасталась.
Вода на земле произошла из воды верхнего мира, поэтому она и обладает целительными способностями. Согласно поверьям, дождевая вода, ниспосланная верхним миром в срединный, проникая в подземный мир, обладает способностью возвращения мертвых в мир живых (те. в срединный). Например, в эпосе часто описывается, как богатыри Джангар и Хонгор вызывают целительный дождь, способный возвращать людей из мира мертвых. Дождевая вода может выступать лекарством, что вполне понятно, учитывая ее происхождение, согласно представлениям калмыков. Поскольку дождь происходит из верхнего мира, то он обладает способностью исцелять раны.
|
Эзн, деед богднь |
Властитель, верховный богдо |
|
Эрднъ билгин хуриг |
Драгоценный благодатный дождь |
|
Эгц делан хонгт орулад, |
На семь суток вызвал, |
|
Эмнн эдгэх хуриг |
Целебный исцеляющий дождь |
|
Эгц курен хонгт орулв. |
На трое суток вызвал. |
|
Ор, цусн, шавинь |
От гноя, крови и ран [богатырей своих], |
|
Одр, се уга эрлкэд, |
Днём и ночью исцеляя, избавил, |
|
Арен хойр зуркан мицкн баатран |
Двенадцать и шесть тысяч богатырей своих |
|
Эмд мет цуглулж суулкад, |
Живыми собрал, усадил, |
|
Анта бурхдын зокагсн |
Благодетельными бурханами благословленный |
|
Эрун цакан мирдэ[р]н эдслн эдслв, |
Священный мирде свой к ним приложив, |
|
Эмд жинОмнэ эдсиг |
Животворную силу имеющий чиндамани |
|
Эдслэд, эдгэкэд аве. |
Приложив, полностью их исцелил. [Багацохуровский цикл. Песня II] |
Фрагмент из эпоса и его перевод взят из рукописи в настоящее время подготовленного к публикации, но еще не изданного тома Свода калмыцкого фольклора «Калмыцкий героический эпос “Джангар”. Багацохуровский цикл».
В эпических текстах дождь часто упоминается с эпитетами, называющими его чудодейственные свойства. Так, Г.Ц. Пюрбеев, описывая чудодейственные способности богатырей, приводит следующие эпитеты, сопровождающие лексему ‘дождь’: аршан билгин хур ‘чудодейственный дождь’, эрдни билгин хур ‘драгоценный дождь’, эрдни цакан эм ‘драгоценное белое лекарство’ [Пюрбеев 2015, 18].
Дождь способен излечивать и смертельные раны, поскольку является своего рода связью между мирами: верхним и срединным, срединным и нижним. Здесь важно, что богатыри знают заклинания, которые вызывают дождь. Это вера, что словом можно вызвать чудо, очень древняя и свойственна не всем, а только шаманам, людям, умеющим связываться с верхним и нижним миром.
Река всегда была границей между мирами не только у монголоязычных и тюркоязычных, но и других народов, например у славянских [Пропп 2000, 186]. В бурятской культуре, например, существует поверье о нежелательности и даже запрете на заключение брака между молодыми людьми, живущими по разные стороны реки [Содномпилова 2009, 123]. Думается, что дождь смывает границы между мирами, делая их видимыми и возможными для осуществления перехода из одного мира в другой.
3.4. Дождь как наказание
Как было указано ранее, дождь, помимо созидательной силы, обладает и разрушительными свойствами. Издревле монголы и ойраты боялись сильного дождя с молнией и громом - грозы, поскольку, по их мнению, такие погодные явления «в одночасье могли принести немало бед» [Ользятиева 2003, 33]. Такое отношение к дождю сопровождалось многими приметами, среди которых следует выделить сюжет легенды, согласно которой белая птица когда-то погубила сына неба, и с тех пор небо преследует ее. Поэтому считалось, что в пасмурные дни калмыки не выносили белые предметы из кибитки, поскольку боялись, что небо по ошибке может принять этот белый предмет за птицу и разразиться грозою [Душан 2016, 184].
Дождь может выступать в качестве наказания, когда происходит нарушение человеком различных канонов, например, когда женщина выходит из дома без головного убора [Ользятиева 2003, 25]; запрещается также вынос из дома белых предметов [Душан 2016, 184], исполнение эпоса в неурочное время [Бакаева 2009, 58].
4. Заключение
Дождь функционально связан с Небом и может выполнять две противоположные функции: созидательную и разрушительную. Согласно первой, дождь является животворящим, производящим жизнь. Поскольку дождь - продукт верхнего мира, это благодать для людей, которые старались попасть под дождь, в особенности весенний, несущий благословение Неба, что выражено в приметах, существующих у калмыцкого народа. Дождь наделялся функциями целительными, и, более того, считалось, что он мог возвращать мертвых из нижнего мира благодаря уникальному свойству проникать в разные, глазу не заметные щели, разломы, что определенно отражено в эпосе «Джангар». Но при всех положительных функциях дождь выступал также как наказание для людей, что основано на страхах как древнего, так и современного человека: подобные природные явления существуют на границе и потенциально способны в одночасье стать стихийным бедствием. Калмыки верят, что дождь, переходя в наиболее интенсивную стадию, в грозу, - может погубить человека и его хозяйство. По этой причине люди старались задобрить Небо, чтобы дождь не становился грозой с молнией и громом.
Список литературы Представления о дожде у калмыков и их предков (на материале фольклорных источников)
- Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. Вып. 35. М.: Языки славянской культуры, 1997. С. 272-298.
- Бакаева Э.П. Джангарчи и задычи: к проблеме мифологического и религиоведческого исследования эпоса «Джангар» // Проблемы истории и культуры монголоязычных и тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий. Вып. 2. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1997. С. 8-29.
- Бакаева Э.П. Добуддийские верования калмыков. Элиста: Джангар, 2003. 358 с.
- Бакаева Э.П. Сакральные коды культуры калмыков. Элиста: Институт комплексных исследований аридных территорий, 2009. 159 с.
- Бакаева Э.П., Сангаджиев Ю.И. Культура жилища: этнические и современные приоритеты у калмыков. Элиста: Джангар, 2005. 196 с.
- Бардаев Э.Ч., Кирюхаев В.Л. Русско-калмыцкий разговорник. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1993. 240 с.
- Батмаев М.М. Калмыки в ХУП-ХУШ вв.: события, люди, быт. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1993. 381 с.
- Башкирское народное творчество. Т. 6: Шуточные сказки и кулямясы. Уфа: Башкирское книжное издательство, 1992. 464 с.
- Борджанова Т.Г. Магическая поэзия калмыков. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1999. 184 с.
- Дашковский П.К., Карымова С.М. Вещь в традиционной культуре народов Центральной Азии: философско-культурологическое исследование. Барнаул: Издательство Алтайского университета, 2012. 252 с.
- Душан УД. Избранные труды / сост. В.В. Батыров, Т.И. Шараева. Элиста: Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН, 2016. 376 с. (МапшспрШт ОпеШаИса).
- Жуковская Н.Л. Категории и символика традиционной культуры монголов. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1988. 198 с.
- Лхагвасурэн Эрдэнэболд. Традиционные верования ойрат-монголов (конец XIX - начало XX в.) / пер. на рус. Ганбат Нямдаг, С.Б. Миягашева, Ж.Б. Бадагаров. Улан-Удэ: Бурятский научный центр СО РАН, 2012. 196 с.
- Манджиева Б.Б. Символика центра в описании эпической державы (дворец властителя, мировая гора) // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2010. № 2. С. 60-63.
- Матуева А.Б. Этнокультурные традиции в освоении образов Мировой горы и Мирового древа в бурятской поэзии // Вестник Бурятского государственного университета. 2010. № 10. С. 21-25.
- Митиров А.Г. Древо жизни в эпосе тюрко-монгольских народов // «Джангар» и проблемы эпического творчества тюрко-монгольских народов. М.: Наука, 1980. С. 259-264.
- Мифы, легенды и предания калмыков / подготовка текстов, пер., вступит. ст., примеч., комментарии, указатели, словарь, сверка калмыцких текстов Т.Г. Басанговой, Т.А. Михалевой; отв. ред. А.А. Бурыкин, Е.Н. Кузьмина, В.В. Куканова, Г.Ц. Пюрбеев; Калмыцкий научный центр РАН. М.: Наука, Восточная литература, 2017. 365 с. (Свод калмыцкого фольклора).
- Неклассическое наследие. Андрей Полетаев / отв. ред. И.М. Савельева. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. 704 с.
- Неклюдов С.Ю. Вещественные объекты и их свойства в фольклорной картине мира // Признаковое пространство культуры / отв. ред. С.М. Толстая. М.: Индрик, 2002. С. 21-31.
- Нормановская Ю.В. Реконструкция пратюркской системы названий климатических явлений и ее анализ с точки зрения диахронической лексической типологии // Природное окружение и материальная культура пратюркских народов. М.: Восточная литература, 2008. С. 68-101.
- Ользятиева С. З. Калмыцкие обычаи и традиции = Хальмг улсин авсъясмуд. Элиста: Джангар, 2003. 256 с.
- Попова З.Д., Стернин И.А. Язык и национальная картина мира. Изд. 3-е, испр. и доп. Воронеж: Истоки, 2007. 250 с.
- Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2000. 335 с.
- Пюрбеев Г.Ц. Эпос «Джангар»: культура и язык (= Ж^а^р дуулвр: сойл болн келн) / на рус. и калм. яз. 2-е изд., перераб. Элиста: Джангар, 2015. 280 с.
- Сагалаев А.М. Алтай в зеркале мифа / отв. ред. М.В. Шуньков. Новосибирск: Наука, СО, 1992. 176 с.
- Сандаловый ларец. Калмыцкие народные сказки / сост. и пер. Т.Г. Басанговой. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 2002. 239 с.
- Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика / отв. ред. Э.Р. Тенищев. М.: Наука, 2001. 822 с.
- Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюркского этноса по данным языка / отв. ред. Э.Р. Тенишев, А.В. Дыбо. М.: Наука, 2006. 908 с.
- Смирнов П. Путевые записки по Калмыцким степям Астраханской губернии. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1999. 248 с.
- Содномпилова М.М. Мир в традиционном мировоззрении и практической деятельности монгольских народов. Улан-Удэ: Бурятский научный центр СО РАН, 2009. 366 с.
- Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир / отв. ред. И.Н. Гемуев. Новосибирск: Наука, СО, 1988. 225 с.
- Хейчиева А. Б. Сакральные места (объекты) в культуре калмыков: одинокий тополь // Монголоведение. 2017. Вып. 11 (11). С. 91-101.
- Чимитдоржиева Г.Н. Образы дождя в бурятском языке // Мир науки, культуры, образования. 2013. № 3. С. 292-295.
- Шагланова О. В. Символика женских украшений восточных бурят: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.07. Улан-Удэ, 2005. 19 с.
- Шараева Т.И. Обряды жизненного цикла калмыков (XIX - нач. XXI в.). Элиста: Джангар, 2011. 223 с.
- Эрдниев У.Э. Калмыки. Историко-этнографические очерки. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1980. 286 с.