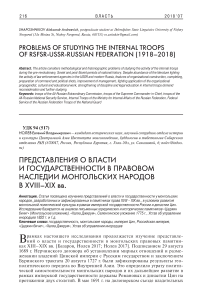Представления о власти и государственности в правовом наследии монгольских народов в XVIII-XIX вв
Автор: Нолев Евгений Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению представлений о власти и государственности у монгольских народов, разработанных и зафиксированных в памятниках права XVIII - XIX вв., в условиях развития монгольской политической культуры в рамках имперской государственности России и династии Цин. Исследование базируется на анализе письменных юридических и исторических памятников: «Цаджин бичиг» (Монгольское уложение), «Халха Джирум», Селенгинское уложение 1775 г., Устав об управлении инородцев 1822 г. и т.д.
Государственность, монгольские народы, империя цин, российская империя, "цаджин бичиг", "халха джирум", устав об управлении инородцев
Короткий адрес: https://sciup.org/170170765
IDR: 170170765 | УДК: 94 | DOI: 10.31171/vlast.v26i7.5980
Текст научной статьи Представления о власти и государственности в правовом наследии монгольских народов в XVIII-XIX вв
Врамках настоящего исследования продолжается изучение представлений о власти и государственности в монгольских правовых памятниках XIII–XIX вв. [Базаров, Нолев 2017; Нолев 2017]. Подписанием 29 августа 1689 г. Нерчинского договора об установлении мирных отношений и размежевании владений Цинской империи с Русским государством и заключением Буринского трактата 20 августа 1727 г. были зафиксированы результаты геополитического передела во Внутренней Азии. Это определило утрату политической самостоятельности монгольских народов и их дальнейшее развитие в рамках имперской государственности державы Романовых и династии Цин на протяжении двух столетий. В мае 1691 г. на долонорском съезде владетельных князей Халхи и Внутренней Монголии было оформлено решение о вхождении Халхи в состав Цинской империи. Территории указанных монгольских земель были объявлены императором Канси (Сюань Е) частями Цинской империи, а все монголы, проживавшие на этих землях, – его подданными, которые обязаны подчиняться его законам.
С XVIII в. политическая культура монгольских народов развивается в рамках политико-правовой системы Российской и Цинской империй и определяется двумя характерными тенденциями. Во-первых, сохранением и развитием в качестве регулятора общественной жизни монгольских правовых традиций, в той или иной степени модернизируемых под влиянием правовых норм империи: «Халха Джирум» – у монгольских народов Цинской империи; «Хэб тогто-гол» [Селенгинское уложение] 1775 г. – в России. Изучение этих памятников позволяет выявить механизмы функционирования институтов власти в кочевом обществе в условиях потери политической автономии и трансформации общественного устройства. Во-вторых, имперской политикой по отношению к «инородцам» и «внешним вассалам», призванной сформировать и закрепить представления о верховной власти. В Китае к таким нормативным актам относились «Цааджин бичиг» [Монгольское уложение], Уложение Палаты внешних сношений 1789 г., Уложение 1815 г. и т.д., в Российской империи – Устав об управлении инородцев 1822 г.
«Халха Джирум» включает в себя 24 закона, постановления и решения, принимавшихся на съездах в период с 1709 по 1770 г. и получивших широкое применение в Халхе в период вхождения Северной Монголии в состав Цинской империи. Согласно мнению исследователя монгольского права С.Ж. Дугаровой, акты «Халха Джирум» характеризуют положение Халхи в составе Маньчжурского государства как государственно-территориального образования, сохранившего традиционные институты управления [Дугарова 2016: 273].
«Цааджин бичиг» [Монгольское уложение]1 является сводом маньчжурских законодательных актов для монголов. Административная стратегия маньчжурских правителей, рассматривающих монголов как подданных империи и в то же время как «внешних вассалов», детерминировала сочетание в цинском законодательстве, наряду с нормами маньчжурского права, разработанными специально для монголов, традиций монгольского обычного права. С 1636 г. маньчжурское законодательство в форме монгольских уложений распространилось на территории Внутренней Монголии, а с 1691 г. специальная комиссия Палаты внешних сношений (Лифаньюань) стала осуществлять деятельность по разработке новых и унификации старых законов. Подготовленное данной комиссией Монгольское уложение было утверждено императором Канси в 1696 г.
Интеграция монгольских политий в состав цинского Китая обусловила необходимость легитимации правления маньчжурского императора с позиции представлений о власти, разработанных в правовых традициях монголов. Обретение императором Хунтайцзи в 1635 г. нефритовой печати императоров династии Юань позволило правителям династии Цин обосновать легитимность своих притязаний на правление монгольскими народами и сформировать представление о преемственности своей власти над Китаем. Сакрализация власти маньчжурских императоров происходила также посредством буддизма, получившего к этому времени широкое распространение среди монгольских народов. Далай-лама V даровал китайскому императору титул «Будда настоящего вре мени» [Нам сараева 2003: 15]. Как следствие, по замечанию Б.Я. Владимирцова,
«манджурский император в глазах народных масс сам стал воплощением буддийского божества, чуть ли не главою буддийской церкви» [Владимирцов 2002: 488]. При этом модель взаимоотношений правителей Цинской империи и буддийских иерархов отличалась от традиционной концепции союза «алтаря и трона», принятой монгольскими ханами. Как отмечает Т.Д. Скрынникова, «существенным является то, что в отличие от этих правителей, использовавших ламаизм в качестве идеологического обоснования своей власти, маньчжурский двор видел в нем лишь средство влияния на включенные в империю ламаизиро-ванные области, а отношения чжан-чжа-хутухты с императором определялись как отношения лама – донатор, а не учитель – ученик» [Скрынникова 1988: 51]. К тому же положение лам в Цинский период подлежало строгой регламентации. В то же время освящение власти цинских императоров буддийской религией щедро поощрялось в виде законодательного закрепления привилегий церковных иерархов и защиты буддийской церкви. Согласно ст. 24 Уложения о монастырях 1736 г. попытки нападения на монастырь сурово карались: человека ханского происхождения изгоняли и лишали всех подданных, а простолюдин за аналогичное преступление подлежал смертной казни с конфискацией всего движимого и недвижимого имущества1. Такие очертания приобрела новая формула духовно-политического союза буддизма и цинской администрации.
Меры, принятые маньчжурским правительством в области административного права, были призваны ослабить реальную власть монгольских правителей, сохранив их почетные привилегии. Цинским законодательством устанавливался особый порядок присвоения императорами титулов и званий монгольским аристократам, назначения их на должности со строгой регламентацией прав и обязанностей князей перед маньчжурскими правителями2.
Административно-территориальное деление Внешней Монголии строилось на основе единообразной системы «знамен» – хошунов. Правители хошунов – дзасаки – утверждались императором из достойных кандидатур по представлению Палаты внешних сношений. Таким образом, конкуренция иерархических моделей, доминировавших в монгольском мире в период малых ханов, сменяется принципом службы императору. Значительная роль в политической системе Монголии в период цинского господства отводилась чулганам – съездам хошунных дзасаков, отсутствие или опоздание на которые наказывались солидными штрафами3.
Внешняя Монголия в концепции управления Цинской империи занимала положение своеобразной буферной зоны, отделяющей империю от соседних стран. В традициях китайской политики на таких территориях действовали принципы: «управлять варварами с помощью варваров», «атаковать варваров с помощью варваров», «сдерживать варваров с помощью варваров» [Намсараева 2003: 15]. Закономерно предположить, что политика маньчжурских правителей по отношению к Халхе в своем архетипе унаследовала данные принципы, что подтверждается положениями цинского законодательства для монголов. Одна из главных задач дзасаков и князей Внешней Монголии заключалась в поддержании боеспособности войск, включавших все боеспособное население. За бегство ванов, нойонов, хошунных тайджи и гунов с поля боя предполагалось отобрать у них всех подчиненных людей и разжаловать в простолюдины; малодушие простолюдинов во время сражения каралось смертной казнью, кон- фискацией движимого и недвижимого имущества, разорением жен и детей1. Ратные подвиги поощрялись наградами и повышением в должности. Особые стандарты были предусмотрены для поведения войск во время походов по отношению к мирному населению, призванные сдерживать стихию военных обычаев кочевников в рамках миропорядка единого государства. Ванам и нойонам предписывалось следить за воинской дисциплиной подчиненных, не допускать мародерства, зла и насилия по отношению к местному населению, а также оказывать помощь мирным жителям2.
Подробная регламентация военного дела ярко иллюстрирует основную функцию «внешних вассалов» империи, присущую традиционной китайской модели управления. Намеренное углубление дистанции между метрополией и Внешней Монголией отражается в правовом наследии3. Во-первых, наряду с изменением административно-территориального устройства была сохранена традиционная граница с Внешней Монголией и пограничная застава. Во-вторых, запрещалось продавать оружие халхасцам и ойратам. Вероятно, подобные ограничения были связаны с необходимостью сохранения военного превосходства маньчжурской армии, уже знакомой с огнестрельным оружием, в условиях опасения усиления монголов. В-третьих, ритуал размещения подданных императора во время столичного приема предполагал более высокое положение аристократов Внутренней Монголии по отношению к представителям Халхи.
Еще одной специфической особенностью взаимоотношений цинского двора и «внешних вассалов» Халхи стало содержание даннических отношений. Основной обязанностью населения Северной Монголии считалась воинская повинность. Выплата дани, представлявшей собой традиционный инструмент монгольской дипломатии в отношениях с цинским Китаем, еще до утраты независимости, после признания маньчжурского господства закрепляется на законодательном уровне с указанием ее размера, регулярности и дальнейшей диверсификации дани «по состоянию». При этом, учитывая значительные размеры дани, ежегодно поставляемой цинскому императору, она все же отличалась от регулярной фиксированной системы налогообложения населения и сохраняла характер ритуального дарообмена. Так, за предоставление в качестве дани одного белого верблюда и восьми белых лошадей правителям монгольских земель в награду полагалось по одному серебряному кувшину весом в тридцать ланов, по одной резной деревянной чашке, по тридцать кусков шелка и по семьдесят кусков черной материи4. Подобная модель даннических отношений в контексте типологии взаимодействия кочевников и земледельцев в рамках империи может характеризоваться усилением политической интеграции при определенной консервации традиционных общественных порядков и экономических отношений в монгольском обществе.
Результатом закрепления на законодательном уровне положения монголов Халхи в качестве «внешних вассалов» могли стать противоречия в правовой системе Внешней Монголии в конце XIX – начале XX вв. Как отмечает Р.Ю. Почекаев, официально источниками права для монголов служили нормативные акты и кодификации, разработанные маньчжурскими властями в XVII– XIX вв., реально же правоотношения регулировались актами монгольских правителей и обычным правом [Почекаев 2017: 14].
Нерчинский договор и Буринский трактат закрепили вхождение Бурятии в состав Российской империи. Несмотря на дискуссионность некоторых вопросов процесса присоединения Прибайкалья и Забайкалья, обращает на себя внимание характеристика, данная С. Владиславичем-Рагузинским в 1727 г., которая отражала сложившийся уровень отношений и взаимного восприятия имперской власти и местного населения: «Буряты служат верою России, не уступая природным россиянам» [История Бурятии 2011: 63].
Восприятие местным населением верховной власти «белого царя» дополняется сакрализацией со стороны буддийской общины в Российской империи. В историографии утвердилось мнение о том, что, согласно Указу 1741 г., буддизм получил официальное признание в качестве одной из религий Российского государства. Реконструируемые статьи данного Указа о комплектном числе лам и запрещении под страхом смертной казни контактов с внешним буддийским миром свидетельствуют о тенденции формирования автокефальной церкви. Поддержка буддизма со стороны властей определялась сильным идеологическим влиянием среди населения и позднее – пониманием перспективного геополитического значения буддизма в качестве плацдарма для укрепления позиций во Внутренней Азии. В то же время представителям буддийского духовенства было необходимо заручиться поддержкой императора. Как следствие подобного политико-религиозного симбиоза Н.В. Цыремпилов отмечает наделение российского монарха атрибутами дхармического властителя в ритуальных практиках буддистов Российской империи. Также в песенном фольклоре бурят сохранилось предание об объявлении императрицы Екатерины II воплощением бодхисаттвы Тары в белой ее ипостаси [Цыремпилов 2013: 207].
Другим проявлением эволюции восприятия по отношению к «белому царю» стало отождествление источника права в правосознании бурят с государством в лице монарха, а хранителей права – с должностными лицами, утверждаемыми монархом [Тумурова 1997: 46].
Устав об управлении инородцев 1822 г. вводил систему местного самоуправления сибирских народов, ставшую отражением политики регионализма Российского правительства, заключавшуюся в стремлении обеспечить казну налогами и постепенно инкорпорировать сибирских инородцев в общероссийское пространство при сохранении этнического самоуправления1. При этом активное внедрение товарно-денежных отношений, денежных поощрений и штрафов, закрепленных в обычном праве бурят, а также дифференцированная налоговая политика, призванная изменить даннический характер отношений, характерный для практики выплаты ясака в XVII в., были направлены на активное включение населения, принадлежащего к разным разрядам, в процессы хозяйственно-экономического развития империи.
Таким образом, анализ представлений о власти и государственности в правовом наследии монгольских народов в период их развития в составе Российской и Цинской империй позволяет изучить процессы интеграции населения Бурятии, Внутренней и Внешней Монголии в имперское политико-правовое пространство, детерминировавшие различия статусов российских подданных и «внешних вассалов» династии Цин.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда. Проект №14-18-00552 «Монгольские народы: исторический опыт трансформации кочевых сообществ Азии».
Список литературы Представления о власти и государственности в правовом наследии монгольских народов в XVIII-XIX вв
- Базаров Б.В., Нолев Е.В. 2017. Представления о власти и государственности в правовом наследии монгольских народов в XVII в. - Власть. № 12. С. 89-94
- Владимирцов Б.Я. 2002. Работы по истории и этнографии монгольских народов. М.: Восточная литература. 557 с
- Дугарова С.Ж. 2016. Историография монгольского государства и права (XIII - начало XIX в.). Улан-Удэ: Изд-во БГУ. 332 с
- История Бурятии. В 3 т. Т. II. XVII - начало XX века. 2011. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. 624 с
- Намсараева С.Б. 2003. Институт наместников цинского Китая в Монголии и Тибете в XVIII веке: автореф. дис. … к.и.н. М. 24 с
- Нолев Е.В. 2017. Представления о власти и государственности в правовом наследии монгольских народов XIII-XVII вв. - Власть. № 10. С. 162-166
- Почекаев Р.Ю. 2017. Традиционное право Монголии под властью империи Цин в записках российских путешественников конца XIX - начала XX века. - Сибирский юридический вестник. № 3(78). С. 14-21
- Скрынникова Т.Д. 1988. Ламаистская церковь и государство. Внешняя Монголия. XVI - начало XX века. Новосибирск: Наука. 104 с
- Тумурова А.Т. 1997. Обычное право бурят по Селенгинскому уложению 1775 года: автореф. дис. … к.ю.н. М. 224 с
- Цыремпилов Н.В. 2013. Буддизм и империя. Бурятская буддийская община в России (XVIII - нач. XX в.). Улан-Удэ: Буряад-Монгол ном хэблэл. 338 с