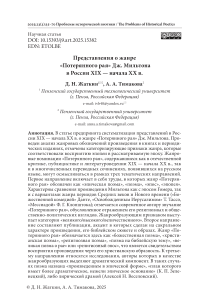Представления о жанре «Потерянного рая» Дж. Мильтона в России XIX — начала XX века
Автор: Жаткин Д.Н., Тимакова А.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята систематизация представлений в России XIX — начала XX в. о жанре «Потерянного рая» Дж. Мильтона. Проведен анализ жанровых обозначений произведения в книгах и периодических изданиях, отмечены категоризирующие признаки жанра, которые соответствовали восприятию эпопеи в рассматриваемую эпоху. Жанровые номинации «Потерянного рая», содержавшиеся как в отечественной критике, публицистике и литературоведении XIX — начала XX в., так и в многочисленных переводных сочинениях, появившихся на русском языке, могут осмысливаться в рамках трех тематических направлений. Первое направление включает в себя труды, в которых жанр «Потерянного рая» обозначен как «эпическая поэма», «поэма», «эпос», «эпопея». Характерны сравнения произведения Мильтона как с эпосом Гомера, так и с вариантами жанра периодов Средних веков и Нового времени («Божественной комедией» Данте, «Освобожденным Иерусалимом» Т. Тассо, «Мессиадой» Ф. Г. Клопштока); отмечается современное автору звучание «Потерянного рая», обусловленное отражением его религиозных и общественно-политических взглядов. Жанрообразующим признаком выступает категория «великого/высокого/величественного». Второе направление составляют публикации, акцент в которых сделан на сакральном характере произведения, его библейском сюжете и образах. Жанр «Потерянного рая» обозначается здесь как «божественная поэма», «христианская поэма», «религиозная поэма», «поэма на библейскую тему», «великая поэма о рае» или «религиозный эпос», что является свидетельством восприятия произведения через его христианскую образность. К третьему направлению относятся исследования, авторы которых в качестве жанрообразующих выделяют драматический компонент. В таких случаях поэма названа «произведением в эпической форме», «план которого имеет более драматическое, нежели эпическое основание» (К. П. Зеленецкий), либо лирической драмой (Алексей Н. Веселовский).
Дж. Мильтон, Потерянный рай, признак жанра, эпос, эпопея, эпическая поэма, поэма, религиозная поэма, христианская поэма, божественная поэма, лирическая драма
Короткий адрес: https://sciup.org/147251689
IDR: 147251689 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15382
Текст научной статьи Представления о жанре «Потерянного рая» Дж. Мильтона в России XIX — начала XX века
П оэма Джона Мильтона «Потерянный рай» (1667) более трех столетий вызывает споры исследователей относительно объема и роли биографических элементов, прообразов главных героев и их иерархии в тексте, политической позиции автора. Отдельный интерес представляют вопросы интерпретации жанра «Потерянного рая». Жанр, своего рода ключ к тексту, способствует процессу эстетической коммуникации не только через соответствие (или несоответствие) жанровым ожиданиям читателей, но и посредством включения произведения в систему их нравственно-этических представлений. Определение жанра как знака литературной традиции [Чернец: 15] диктует необходимость понимания — а какой именно традиции? Номинация «Потерянного рая» как эпической или религиозной поэмы предполагает выделение хотя и не полярных в силу многоплановости произведения, но все же разных конститутивных принципов его построения. Анализ представлений о жанре «Потерянного рая» Дж. Мильтона в России XIX — начала XX в. позволяет не только дополнить картину рецепции творчества английского поэта в России, но и систематизировать категории, выступавшие для критиков основанием отнесения произведения к тому или иному жанру.
Восприятие «Потерянного рая» в российском обществе во многом формировалось под влиянием переводных работ (преимущественно — французских и немецких авторов), увидевших свет на русском языке. В связи с этим для полноты охвата материала, характеризующего восприятие жанра «Потерянного рая» в России XIX — начала XX в., нами учитываются не только труды отечественных критиков, публицистов и литературоведов, но и многочисленные публикации переводного характера.
Анализ жанровых особенностей «Потерянного рая» Мильтона с обзором разнообразия жанровых дефиниций произведения в современном отечественном и западноевропейском литературоведении предпринят в работах Е. Н. Тетериной [Тетерина, 2004, 2014]; предметом научного внимания также являлся синтез античного и христианского начал в пасторальном тексте поэмы Мильтона [Соколова]; исследовалось влияние античного наследия на творчество английского поэта [Шашкова]; кроме того, «Потерянный рай» рассматривался в качестве жанрового образца для русских религиозных поэм первой половины XIX в. [Коровин]. Однако диахронический аспект изучения подвижности в определении жанровых границ произведения Мильтона в России XIX — начала XX в. до настоящего времени не становился предметом отдельного научного исследования.
Анализ истории жанровых наименований «Потерянного рая» Мильтона актуализировал вопрос определенности и, более широко, самой возможности однозначной определенности объема номинаций «эпопея» и «эпическая поэма». В академических словарях и научных трудах с конца XVIII в. по первую четверть XX в. (по сути — в интересующий нас период) наблюдается смешение (или неразделение) жанровых границ этих понятий. Более того, необходимо отметить традиционную в работах о «Потерянном рае» исследователей XIX — начала XX в. синонимию номинаций «эпопея» и «поэма», отражающую единое, цельное восприятие синкретизма лироэпоса, впоследствии разделившегося на роды [Веселовский, 1940: 459]. Причем это не является особенностью рецепции только произведения Мильтона. Так, в «Словаре Академии Российской» (1794) читаем: «ЭПОПЕЯ. Греч. Самое высокое стихотворение, в котором описывается важное целого народа или всего человеческого рода происшествие; иначе Поема »; «Эпический. Принадлежащий к ироическому стихотворству: говорится в следующих токмо выражениях. Эпическая поема. Эпический стихотворец»1. «Словарь церковнославянского и русского языка» (1847) также дает взаимозависимые определения: «Поэма. Поэтическое повествование важного или занимательного действия, в героическом, романтическом, комическом или смешанном роде. Поэма Гомера. Поэма Дан-та. Поэма "Расхищенные шубы"»2; «Эпопея. То же, что поэма. Эпопея Гомера»3.
Нет принципиальных различий между эпопеей и поэмой и в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля (1863–1866): «Эпос м. эпопея ж. греч. поэма степенного, важного содержанья»4; ср.: «Поэма ж. поэтичное повествованье, стихотворный рассказ, целостного содержанья»5. Впрочем, отметим, что в определении поэмы акцент сделан на лирическом компоненте, что свидетельствует о движении к перцепции автономии родов6. Теоретическое обоснование этому движению дается в работах Александра Николаевича Веселовского «Из введения в историческую поэтику» (1893) и «Три главы из исторической поэтики» (1899), в его лекциях по истории лирики и драмы (1882)7, на что в дальнейшем ссылается Л. Богоявленский, автор статей «Поэма» и «Эпопея» в «Словаре литературных терминов» (1925), давая жанру эпопеи определение автономное, но с учетом более его происхождения, нежели конститутивных особенностей: «Эпопея — слово греческое, обозначает собрание былевых сводов, являющееся в результате попытки связать разнообразные сказания об одном и том же событии» [Богоявленский: 1126]. С той же позиции Л. Богоявленским дано определение поэмы и выделены ее отличия от эпопеи: «Поэма — слово греческое и таит в себе древнее значение — "творение, создание" — и не потому только, что она повествует о делах, "творениях" людских, но и потому, что сама она есть "действо песенное", "обработка песен", их объединение. Отсюда и применение названия "поэма" к эпическим сводам, спевам; отсюда и близость ее по значению к эпопее, близость до тождества. Но все-таки отличие есть. Отличие в том, что термин "поэма" эволюционировал, тогда как термин "эпопея" застыл в своем значении свода былевых — народных — песен» [Богоявленский: 629].
Внимание к роли народной стихии в формировании эпо-пейного жанра берет свое начало в России во второй половине XIX в., когда на волне социально-политических событий, связанных с реформами Александра II, в том числе отменой крепостного права, и распространением идей народничества, происходило осмысление значения народа и устного народного творчества в формировании национальной культуры. В 1860–1880-е гг. появляются работы Ф. И. Буслаева о народной поэзии, несколько позже — исследования И. Н. Жданова «Русский былевой эпос» (1895) и Вс. Ф. Миллера «Очерки русской народ ной словесности» (1897), дающие значительное
Представления о жанре «Потерянного рая» Дж. Мильтона… 41 приращение научного знания о развитии эпического рода на материале литературы Древней Руси. Однако к специфике внутриродовых особенностей жанров поэмы и эпопеи авторы этих работ не обращаются. Тенденция опоры на народную основу происхождения эпопеи при ее номинации сохраняется вплоть до начала XX в.8
Первое полное издание поэмы Мильтона на русском языке относится к 1780 г.9, однако на тот момент русский читатель был уже хорошо знаком с произведением по спискам созданного в 1745 г. А. Г. Строгановым (или Строгоновым, как обозначалось в самих списках)10 и оставшегося неопубликованным перевода с французского языка-посредника11. В рукописных копиях, достаточно частых для XVIII в., распространялись переводы поэзии Александра Поупа, Эдуарда Юнга [Лимонов: 176], исторические и публицистические труды западноевропейских авторов, другие произведения. «Потерянный рай», помимо того что был посвящен универсальным этическим и моральным проблемам, резонировал со многими общественно-политическими аспектами развития России XVIII в. (от причин Крестьянской войны 1773–1775 гг. до идейных основ просветительской деятельности Н. И. Новикóва) [Лимонов: 177], чем можно объяснить его популярность. В нескольких рукописных собраниях хранятся разные по полноте списки перевода А. Г. Строганова — «Погубленный Рай, чрез Иоанна Милтона героической поемой представленный…»12. Очевидно, номинация произведения героической поэмой соотносится с представлениями читателей (и переводчика) о поэме эпической. Так, один из первых критиков поэмы, Дж. Аддисон, понимая неординарность произведения Мильтона, называл его в своих эссе, публиковавшихся в 1711–1712 гг. на страницах журнала “The Spectator”, то героической поэмой, то ущербным трагическим эпосом — и в том и в другом случае предполагая эпическую основу жанра (см. подробнее: [Тетерина, 2014: 14]). Описанное в поэме вселенское противостояние сил добра и зла вызывает рассуждения о жанре в границах высокого, эпического (см.: [Тетерина, 2014: 32]), однако глубина и концептуальное богатство «Потерянного рая» оставляют простор для вариативного понимания жанровых принципов интерпретации Мильтоном библейской истории.
Представления о жанре «Потерянного рая» Мильтона в России в XIX — начале XX в. могут быть систематизирова-
Представления о жанре «Потерянного рая» Дж. Мильтона… 43 ны в рамках трех направлений, в зависимости от того, какие признаки произведения признаются жанрообразующими. К первому направлению относятся труды тех авторов, которые определяют место «Потерянного рая» в ряду эпосов Гомера, Вергилия, Овидия и Данте и именуют его «поэмой», «эпической поэмой», «эпосом» или «эпопеей», используя эти дефиниции как синонимические. В этих работах ведущим жанровым признаком выступает категория высокого, образующая предмет повествования. Эпопейное начало здесь, как в классических образцах жанра, связывается с абсолютным прошлым, а его сакральный характер в художественной риторике Нового времени более соотносится с поэтическим мировосприятием. Такова и логика жанрового именования поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» в характеристике Г. В. Ф. Гегеля: «Этот эпос раскрывается как поэма, т. е. как поэтически сконструированное событие <…> вместо того, чтобы, подобно Гомеру, произведение, как подлинный эпос , находило слово для всего, что представляет собою нация…» [Гегель: 287]. Некую условность сопоставления эпоса Гомера с произведением Мильтона, формальный характер приближения «Потерянного рая» к «Илиаде» будут отмечать исследователи, для которых «мир отцов и родоначальников, мир "первых" и "лучших"» [Бахтин, 2012: 617] (в случае с поэмой Мильтона — самых первых), чья история составляет сюжет поэмы, будет лишь предлогом для разговора о современности, однако при этом часть авторов ограничится использованием привычных жанровых определений.
Наиболее часто «Потерянный рай» Мильтона представлен в критике XIX — начала XX в. как «эпическая поэма» или «поэма», и в этом есть определенная преемственность, поскольку еще в статье В. Г. Рубана «Опыт письменного перевода г. Строганова, названного им "Погубленного рая"», напечатанной в 1780 г. в «Санкт-Петербургском Вестнике», «Погубленный рай» обозначен как «поэма»13. Во фрагменте из книги Ж. М . Б. Сен-Виктора “Les Grands poétes malheureux”
(«Великие поэты-несчастливцы», 1802)14, опубликованном в ноябрьском номере «журнала российской и иностранной словесности» «Минерва» за 1807 г., рассказывается о возникновении у Мильтона замысла поэмы при посещении им постановки религиозной драмы в стихах Дж. Б. Андреини «Адам» (“L’Adamo”, 1613)15, сюжетом которой была судьба первых людей — от сотворения их Богом до изгнания из рая. Масштаб темы увлек Мильтона, что привело к изменению предмета повествования: «Сперва Мильтон хотел сочинить из сего предмета Трагедию; но как круг понятий его расширялся по мере размышления, то он и решился написать эпическую Поэму…»16. От описания трагедии изгнания первых людей из рая Мильтон поднимается до постановки проблемы происхождения зла, утверждения добра и диалектического единства этих категорий. Однако Сен-Виктор никак не комментирует эту эволюцию; выступая не столько исследователем, сколько просветителем и популяризатором, он знакомит читателя с этапами жизненного пути Мильтона и судьбой его наиболее известного произведения. Стремясь к беспристрастности, Сен-Виктор ссылался одновременно на Дж. Аддисона, называвшего Мильтона «первым Гомером», и Дж. Драйдена, отмечавшего недостатки мильтоновской поэмы, однако, соглашаясь с некоторыми из замечаний, признавал, что «нельзя не плениться важностию предмета <…> Все великое и ужасное описано Мильтоном с непостижимою силою»17. Признание художественных достоинств произведения здесь вписано в канву утверждения его идейно-тематического ве личия, что мож ет быть соотнесено с жанром эпической поэмы.
Категорию высокого как жанрообразующий признак выделяет и А. Н-ъ18, автор очерка «Мильтон», увидевшего свет в № 33/34 журнала «Благонамеренный» за 1825 г.: «Главное достоинство Мильтона заключается в высокости его мыслей: в сем случае он превосходит Вергилия и уступает разве одному только Гомеру» [А. Н-ъ: 199]. А. Н-ъ не только находит возможность для сопоставления античного образца жанра с произведением Мильтона, но в своем анализе идет дальше, разграничивая нюансы эпического метода авторов: «Высокое Гомера виднее в изображении самых действий; высокое Мильтона — в предметах, удивляющих воображение», то есть в описании ада, явлении Сатаны, совещании адских вождей, бегства Сатаны через Хаос, — всё это картины суть «смелые и величественные» [А. Н-ъ: 199]. Примечательна семантическая близость в риторике автора очерка категории высокого понятию величественного («Гомер <…> увлекает нас силою мыслей своих; какое-то спокойное величие царствует в Поэме Мильтона» [А. Н-ъ: 199]), что отвечает самому характеру эпического повествования и дает основание для вывода: «…Мильтон, воспользуясь некоторыми случаями Св. Писания, мог составить столь правильную во всей полноте своей Эпическую Поэму…» [А. Н-ъ: 193]. Критерий «правильности» в этом случае связан с соответствием авторской манеры эпопейной формуле, в которой помимо «эпической дистанции» между изображаемым и его певцом, обращенности в «абсолютное прошлое», «благоговейной установки потомка» как «произ-носителя эпического слова» есть требование абсолютного равенства себе и «сплошной овнешненности» героя [Бахтин, 2012: 617, 637], то есть явленности всех его внутренних качеств.
Созданные Мильтоном образы Адама и Евы согласуются с таким условием, при котором «внутренний мир и все его внешние черты, проявления и действия лежат в одной плоскости» [Бахтин, 1975: 477].
Ставя произведение Мильтона в контекст гомеровского эпоса, А. Н-ъ вместе с тем защищает творческую индивидуальность автора «Потерянного рая». Так, он отстаивает наличие (обязательное в эпопее, по его мнению) главного героя (это Адам, вокруг которого завязано действие), указывает на самостоятельность Мильтона в обрисовке характера Сатаны, представленного вопреки традициям, восхищенно отзывается об истории любви Адама и Евы и заключает: «Гомер и Вергилий образовали Тасса; Мильтон же образовал сам себя» [А. Н-ъ: 201]. Таким образом, метод повествования в «Потерянном рае», по мысли А. Н-ъ, не просто позволяет назвать произведение Мильтона эпической поэмой, но выводит его к вершинным образцам жанра.
Вопрос причастности «Потерянного рая» к жанру эпопеи затронул В. Г. Белинский в своих статьях «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835) и «О разделении поэзии на роды и виды» (1841), в которых он обосновал идею о принадлежности эпопеи исключительно эпохе, ее создавшей. Белинский пишет о том, что открытый взгляд на жизнь, безрефлексивное восприятие себя в системе отношений с миром и верное отражение этого через художественное слово оканчивается «младенческим и юношеским возрастом народа» [Белинский, 1953: 264]. Изменился мир, следовательно, меняется и форма его художественного отражения. Те писатели, которые стремятся «придать своим поэтическим созданиям колорит идеальный», лишь усиливают разрыв поэзии с жизнью, сводя все «чудесное» к «холодной аллегории» [Белинский, 1953: 264, 265]. Среди произведений, которыми иллюстрируется эта мысль, Белинский называет поэму Мильтона: «…скажите, бога ради, что такое эти "Энеиды"<,> эти "Освобожденные Иерусалимы", "Потерянные раи", "Мессиады"? Не суть ли это заблуждения талантов, более или менее могущественных, попытки ума, более или менее успевшие привести в заблуждение своих почитателей?» [Белинский, 1953: 265]. Он полагает, что форма эпопеи чужда как содержанию, так и духу времени, породившему «Потерянный рай», «Освобожденный Иерусалим» и «Мессиаду». Даже в верования в Новом времени уже вошел «мыслительный», «рассудочный» элемент, повлияв на создаваемую в «Потерянном рае» картину мира, а следовательно, и на форму произведения («…потому форма этой поэмы неестественна…» [Белинский, 1954: 36]). Однако Белинский не находит иного жанрового определения для «Потерянного рая», «Освобожденного Иерусалима» и «Мессиады», оставаясь, пусть и с оговорками («лучшие попытки (курсив наш. — Д. Ж., А. Т.) в эпопее у новейших народов…» [Белинский, 1954: 36]), в рамках устоявшейся системы.
Предмет изображения как центральный признак жанра выделяется автором «Курса истории поэзии для воспитанниц женских институтов и воспитанников гимназий» (1860) А. И. Линниченко. Передавая историю возникновения замысла «Потерянного рая», автор подчеркивает, что Мильтон «понял величие предмета» [Линниченко: 106]. Более того, борьба «света с тьмою», составившая эпическую основу поэмы, не осталась в абсолютном прошлом — ее «свидетелем и участником» был и сам Мильтон, — отмечает Линниченко, имея в виду, очевидно, юношеские впечатления поэта, связанные с отречением его отца от католицизма (своего рода восстание), последовавшего затем наказания (лишение наследства), а также разочарование после падения республики и восстановления Стюартов [Линниченко: 107, 103, 104]. Такая актуализация проблематики видится не разрушением эпической дистанции, а утверждением эпической, надындивидуальной, темы.
Подход А. И. Линниченко к обзору поэмы в целом ориентирован на ее жанровые границы. Так, автор курса дает ей прямое жанровое определение — эпопея — и вписывает в контекст произведений Вергилия, Данте, Тассо: «Поэт <…> из соревнования к великим эпическим поэтам Италии, задумал создать на родном языке сначала драму, а потом эпопею» [Линниченко: 106–107]. Примечательно, что ориентиром жанра для Мильтона, по мысли Линниченко, выступает не античный текст, а произведение Данте («Поэма "Потерянный Рай" может быть названа в некотором отношении Протестантскою
Божественною Комедиею 19» [Линниченко: 107]), причем, при сравнении с Данте, он отдает предпочтение Мильтону на основании того, что в его эпопее «гораздо более человеческого» [Линниченко: 107]. Линниченко размышляет о гениальности творческой манеры Мильтона, который сумел совместить высокий предмет повествования, важный «не только для христиан, но и для всего человечества» [Линниченко: 107], с поэтической достоверностью описания действующих лиц поэмы, «человечность» которых отличает «Потерянный рай» от несколько парадных героев иных эпических произведений.
Вместе с тем достоверность образов не препятствует характеристике «Потерянного рая» как запечатленного «характером величия » [Линниченко: 107], причем величие исследователь усматривает в картинах природы, райской жизни прародителей, изображениях ада и неба — пронизывающих архитектонику текста и создающих единый высокий пафос повествования. Идейно-стилевая гармония произведения поддерживается господством в нем «строгого единства действия, каким отличаются только поэмы гомерические» [Лин-ниченко: 107–108]. Как видим, признавая эпическую основу «Потерянного рая», Линниченко в качестве синонимических использует термины «эпопея» и «поэма», но при этом он же вводит в анализ и определение «эпос религиозный», о чем будет рассказано далее.
«Божественная комедия» Данте становится ориентиром при жанровой характеристике поэмы Мильтона и в подготовленной Н. В. Гербелем антологии «Английские поэты в биографиях и образцах» (1875): «"Потерянный Рай" составляет род божественной комедии, но только протестантской» [Гербель: 140]. Его оценки произведения во многом совпадают с представлениями А. И. Линниченко, однако то, что для Линниченко было особенностью авторской версии жанра («классические образцы» и «богословские тонкости» [Линни-ченко: 108]), для Гербеля стало нарушением жанрового канона: «Конечно, "Потерянный Рай" не может назваться вполне художественным эпическим созданием. Классические воспоминания и богословие сильно вредят поэме; первые внесли робкое подражание классическим образцам в форму, последнее — догматические тонкости в содержание» [Гербель: 140]. Как видим, в понимании Гербеля, поэма Мильтона лишена структурной точности и идейной ясности, обязательных, по мысли автора материала, для эпического жанра. Тем не менее, описывая жизненный и творческий путь Мильтона, Гербель не отходит от сложившейся традиции, упоминая о его славе «первого эпического поэта своей родины» [Гербель: 140].
Отметим, что сходная позиция была ранее высказана И. Шерром, чья «Всеобщая история литературы» выдержала в России в 1860–1890-е гг. несколько изданий. По мысли Шер-ра, «классические воспоминания», как и «богословие», лишают поэму Мильтона «Потерянный рай» возможности называться «вполне художественным эпическим произведением» [Шерр: 49].
Интересен подход к характеристике жанра «Потерянного рая» М. Г. Лишина. В «Курсе всеобщей литературы» (1882) он говорит о влиянии на творческое становление Мильтона классической литературы и итальянской поэзии Средних веков, о возможности сравнения «Потерянного рая» с «Божественной комедией» Данте, однако в прямые жанровые параллели ни одно из произведений не ставит, указывая на «мечту» автора — «создать английский эпос» (курсив наш. — Д. Ж., А. Т .) [Лишин: 108]. Тем самым Лишин выявляет, а далее и обосновывает своеобразие произведения Мильтона. «Потерянный рай», полагает исследователь, можно рассматривать «с двух сторон: со стороны предмета содержания и со стороны идеи» [Лишин: 108]. И если предмет поэмы, грехопадение первого человека, отвечает эпической традиции повествования об универсальных темах, константах бытия человека, то «со стороны <…> идеи поэма Мильтона имеет близкое отношение к веку: в ней распространен дух республиканца» [Лишин: 109]. Следуя за предшественниками в соотнесении «Потерянного рая» с событиями, современными Мильтону (см., напр.: [Линниченко: 109]), Лишин обозначает своеобразие воплощения поэтом эпического жанра определением «английский».
Как «большую эпическую поэму», вдохновленную «величием <…> предмета», характеризует «Потерянный рай» А. Штерн [Штерн: 286], автор переводной «Всеобщей истории литературы», увидевшей свет на русском языке в 1885 г. Поэма Мильтона в комментариях Штерна предстает примером жанра, в котором все повествовательные уровни скреплены единством действия и общей, теологической, функцией: «…эпопея была <…> свидетельством об идеалах пуританства, как понимал их поэт» [Штерн: 286]. Примечательно упоминание синонимичного для исследователя жанрового обозначения «Потерянного рая» — эпопея. Идейная направленность «Потерянного рая», по мысли Штерна, явлена не в плоскости актуализации мотива борьбы или отражения вечной диалектики добра и зла, приближающей поэму к современной ее автору эпохе, а в воплощении «пуританских мечтаний» Мильтона «об отношении Бога к Сатане, о тайне грехопадения и изгнания из рая» [Штерн: 287]. Эта номинация появляется там, где внимание исследователя акцентируется на степени вмешательства в текст авторского «я». В трактовке Штерна это вмешательство проявляет себя усилением идейно-религиозной, пуританской линии. Понимание поэмы Штерном в некотором смысле лишает ее семантической универсальности, применимости образов и смыслов к иным, кроме как мифологическим или религиозным, ситуациям. Более того, «непреоборимая отвлеченность догматических хитросплетений», «туманные <…> призраки» уводят Мильтона, как считает автор, от живого действия в сторону внешних описаний, а «величие предмета» постепенно берет верх над живым поэтическим словом, превращая повествование в «непроницаемую туманность» [Штерн: 287]. Эта характеристика поэмы приближает ее к средневековым сакральным текстам, понимание которых было доступно избранным, в то время как манера классического эпического певца была близка народной поэтической традиции как с художественной позиции, так и со смысловой, поскольку ясность изображаемого тесно связана с категорией «эпического миросозерцания» («нет поэта, а певец ото всех и за всех, поющий про то, что всем известно и всех интересует» (курсив наш. — Д. Ж., А. Т.) [Веселовский, 1886: 4]).
Типичный пример смешения жанровых номинаций «Потерянного рая» можно видеть также в описании жизненного и творческого пути Мильтона, опубликованном в 1881 г. в «Русском Вестнике» за подписью Р. ( его автором был писатель и журналист Е. М. Феоктистов (см.: [Масанов: 9]) ) : «Разбирать подробно поэму Мильтона значило бы написать особый о ней этюд», и далее, несколькими строками ниже, отсылка к Дж. Аддисону, утверждавшему, что «Сатану следует считать героем эпопеи » (курсив наш. — Д. Ж., А. Т .) [Р.: 573].
Отметим полярность оценок критиками воплощения в поэме библейских сюжетов. Так, если для А. Штерна «эпическая поэма» Мильтона полна «догматических хитросплетений» [Штерн: 287], то И. Шерр и следующий за ним Н. В. Гербель, отказывая «Потерянному раю» в праве именоваться «вполне художественным эпическим созданием» [Шерр: 49], [Гербель: 140], наоборот, обращают внимание на то, что Мильтон «сумел превратить свой материал в действительную, то есть поэтически действительную историю, пересоздать спиритуализм протестантского христианства в органически связанную мифологию» [Шерр: 49] (см. также: [Гербель: 140]). Таким образом, интерпретация особенностей реализации в «Потерянном рае» Мильтона библейских мотивов и сюжетов может быть признана категорией субъективной, но оказывающей влияние на жанровую номинацию произведения исследователями XIX в.
Эпической поэмой называет «Потерянный рай» Мильтона и Н. И. Стороженко [Стороженко: 272], однако делает при этом следующее замечание: «Поэму Мильтона нельзя мерить классической меркой эпической поэмы; если ее нужно сравнивать, то не с "Илиадой" или "Энеидой", а разве с "Божественной Комедией" Данте» [Стороженко: 273]. Основанием для сравнения двух произведений Стороженко (равно как и его предшественники (см., напр.: [Линниченко: 109], [Лишин: 109])) считает их актуальное и злободневное звучание, выражение авторами «негодующего протеста» против «современного порядка вещей» [Стороженко: 273]. Кроме того, Стороженко разделяет ценность произведения Мильтона с эстетической и культурно-исторической, биографической точек зрения. И если «неверность тона, анахронизмы, психологические промахи» [Стороженко: 274] вредят художественной стороне поэмы, то отраженное в ней «миросозерцание образованнейшего из пуритан, его общественные и нравственные идеалы и его энергический протест против современного ему лакейства и нравственной распущенности» делают произведение «в высшей степени замечательным» [Стороженко: 275]. Как видим, Стороженко усматривает достоинства эпической поэмы Мильтона не в реализации библейского сюжета, а в попытке осмыслить в универсальных категориях движение истории, которому автор сам был свидетелем. Такое развитие эпоса как жанра соотносится с пониманием жанра как «исторического суда» [Веселовский, 1975: 299], отражающего социокультурное состояние общества. И потому характеристика поэмы, в которой актуализируется соотнесенность ее звучания времени написания, является признаком эволюции жанра, когда «личностное восприятие привносит в эпическое связь с категорией времени» [Говенько: 11].
«Потерянный рай» Мильтона назван эпопеей в статье К. Ти-андера, напечатанной в журнале «Современный мир» в 1909 г. [Тиандер]. Отдельных характеристик жанра Тиандер не дает, но логика анализа своеобразия произведения Мильтона свидетельствует о том, что идейное звучание «Потерянного рая» («"Мужество — это страдание за истину!" — это изречение Адама звучит, как идейная подкладка человеческой трагедии, изображенной в "Потерянном рае"…» [Тиандер: 24]) и способы его воплощения ( в духе идеалов пуританизма (см.: [Тиандер: 23]) ) соответствуют в понимании автора очерка эстетике эпопеи. Ни «культурно-исторический», ни «автобиографический» интерес, в целом не свойственные классическим образцам жанра, не уводят Тиандера от этого жанрового обозначения.
Обоснование принадлежности «Потерянного рая» Мильтона к жанру эпопеи также предложено В. Томасом, чья книга по истории английской литературы увидела свет на русском языке в 1910 г.: «Это — эпопея самых несовместимых элементов: мифологические воспоминания; намеки на древность,
Представления о жанре «Потерянного рая» Дж. Мильтона… 53 заимствования из греческих и латинских поэтов; ад и небо, согласно христианскому преданию; восставшие ангелы, повинующиеся неукротимому начальнику, сатане, самому могучему из революционеров; человеческие фигуры Евы и Адама — все это собрано вместе; идеи самые противоположные сталкиваются и не приходят к соглашению; догма о Троице и арианская ересь; предопределение и свобода воли; чистая бестелесность ангельских форм и их реальные цели» [Томас: 46]. Однако все эти противоречия нивелируются «несравненным величием произведения» [Томас: 46], обусловленным талантом автора и эпохой, сформировавшей этот талант и давшей ему «инструментальную», стилевую возможность выразиться в соответствии с высоким предметом повествования. В характеристике Томасом жанра «Потерянного рая» акцентируется объемность отражения Мильтоном мира, но не бытийного, онтологического, а вполне сущего, события в котором непосредственно влияют на жизнь человека. И такая особенность построения эпического пространства в художественном произведении оказалась, по наблюдению Томаса, преемственной в литературе последующих столетий.
На «возвышенный сюжет» «Потерянного рая» в 1911 г. обратила внимание Л. М. Турыгина, назвавшая произведение «эпопеей протестантской», а Мильтона — «первым эпическим поэтом» Англии [Турыгина: 33, 27]. При этом данная ею характеристика идейного звучания произведения Мильтона более ориентирована на выражение его политических взглядов, нежели морально-нравственных, религиозных убеждений: «Поэма эта, главная мысль которой — трагическая борьба между небом и сатаной, вся проникнута дыханием мужественного республиканства, со всею силою сказавшегося в грозно-величавом образе Сатаны, составляющем, бесспорно, средоточие целого произведения» [Турыгина: 33–34]. Универсальное значение эпопеи Мильтона проявилось, по мнению Турыгиной, в «удивительно выполненном плане» [Турыгина: 40] реконструкции истории «прародителей», глубине мысли, силе и выразительности стиха и прочих содержательных и художественных достоинствах произведения, что служит, в соответствии с традицией эпического жанра, функции просветления, гармонизации души человека.
Замысел поэмы о борьбе добра со злом и утрате первыми людьми рая соответствовал идейно-эстетическим принципам Мильтона, на что в разное время указывали его биографы и исследователи (напр., [Стороженко: 274], [Тиандер: 23], [Штерн: 287]). Так, Г. Геттнер в «Истории всеобщей литературы XVIII века», первый том которой, посвященный английской литературе, издавался на русском языке дважды — в 1863 и 1896 гг., прямо соотнес понимание Мильтоном цели поэзии и жанровый характер «Потерянного рая»: «…Мильтон выражает намерение сделаться некогда эпическим поэтом. Он говорит при этом случае: "Цель всякой поэзии состоит в том, чтобы возвышенными и убеждающими хвалебными песнями прославлять престол и величие всемогущего Бога…"» [Геттнер: 53]. Исследователь отмечает «эпическое спокойствие» произведения, «гомерические битвы» и в целом трагический характер главного конфликта «эпоса» Мильтона — «борьбы между небом и сатаной» [Геттнер: 54–55]. Содержательная основа поэмы, таким образом, побудила многих исследователей выделить в ней эпические элементы в роли жанрообразующих. И по этой же причине эпопейное начало в «Потерянном рае» в определении жанра произведения зачастую приобретало категоризирующий религиозный, христианский компонент. Тот же Геттнер, говоря далее о достоинствах и недостатках «высокого и однако столь странного произведения» [Геттнер: 56], делает следующий вывод: «Поучительное направление преобладает; это не столько религиозный эпос (курсив наш. — Д. Ж., А. Т. ), сколько поэтическая теодицея» [Геттнер: 57], имея в виду значительно выраженный в поэме лирический компонент, очевидное присутствие в ней авторского «я». Исследователь переводит анализ степени и качества выраженности в произведении взглядов Мильтона из плоскости идейно-политической (что характерно, например, для публикаций М. Г. Лишина [Лишин: 109] или В. М. Фриче [Фриче, 1927: 43]) в сферу теории литературы, к рассмотрению факторов, влияющих на жанр «Потерянного рая». И названная им жанровая конструкция религиозный эпос является следующей по частоте употребления при характеристике произведения Мильтона.
«Эпосом религиозным» называет «Потерянный рай» Мильтона уже упоминавшийся А. И. Линниченко, подчеркивая тем самым подчиненность произведения главной, сакральной теме. Недостатки от «богословских умствований в содержании», слабые стороны, связанные с «богословскими тонкостями», контрастируют в «Потерянном рае» со значимостью воссоздания темы борьбы, «художественного изображения возвышенной и трагической стороны английской революции» [Линниченко: 108–109]. Классические образцы тесны для масштабности поэмы Мильтона, поскольку представили лишь «узкое подражание в форме», тогда как «дух мужественного республиканца» [Линниченко: 108, 109], пронизывающий поэму, придает ей трагический характер и драматическую развязку. Как видим, Линниченко использует определение «эпос религиозный», разводя объект (библейская тематика) и предмет (высокий и трагический пафос английской революции) повествования Мильтона, — проблематика произведения сближается с политической и, в более общем плане, с социально-этической повесткой современной английскому поэту эпохи.
Исследователь скептически оценивает намерения Мильтона «дать художественную форму тому, что понимается одной верою», и отобразить через фантазийные образы богословские догматы [Линниченко: 108]. По мнению Линниченко, возвышенность предмета повествования оказалась поэту не под силу, отсюда в произведении появились анахронизмы, стилевые и смысловые неточности. Примечательно, что сюжеты и мотивы Священной книги в поэме Мильтона мыслились своего рода ее «поэтическим аналогом», следовательно, поэту было допустимо только усиливать воздействие с помощью художественного слова, тогда как Творец у истории должен был остаться один.
К. Вейзер в «Истории английской литературы», напечатанной в русском переводе в 1899 г., видит другие недостатки в «религиозном эпосе» [Вейзер: 87] Мильтона — например, отсутствие развития характеров, как в других эпосах, схематичность образов, лишенных индивидуальности и не пробуждающих интереса, утомляющий читателя «ангельский слог», который сближает «Потерянный рай» с «Мессиадой»
Ф. Г. Клопштока [Вейзер: 90]. Впрочем, «возвышенной теме <…> соответствует исполнение» [Вейзер: 89], и библейские сюжеты, согласно характеристике исследователя, составляют единственный повествовательный план произведения.
Отметим принципиально важную особенность интерпретации семантического поля «Потерянного рая» теми исследователями, которые дают жанровое обозначение поэме исходя из ее центральных (библейских) сюжетов: художественное воплощение сакральной истории может иметь, в их представлении, только прямое, религиозное или близкое к нему философское толкование. Историко-культурные, социальные, политические, автобиографические моменты, отмечаемые в поэме другими критиками, в этих трудах чаще всего опущены. Жанровое обозначение в данном случае является валидным отражением идейно-художественного содержания произведения.
В частности, М. Т. Каченовский, опубликовавший за подписью Т.20 аналитический разбор поэмы Мильтона и ее нового русского перевода21 в «Вестнике Европы» в ноябре 1810 г., со ссылкой на Дж. Аддисона называет «Потерянный рай» божественной поэмой , а Мильтона — подражателем великим эпическим поэтам в сохранении «единого», «целого», «величественного» действия [Т.: 55–56]. При этом «единство» и «целостность» понимаются крайне близко, как идейно-тематическая ограниченность повествования, при которой «действие не должно иметь ничего постороннего ни перед началом, ни в средине, ни после окончания» [Т.: 57]. И здесь поэма Мильтона, по мысли автора разбора, выигрывает у эпоса Вергилия и даже у «Илиады» Гомера, поскольку они могли расширить повествование поэтическим вымыслом, а Мильтон должен был соблюдать крайнюю осторожность [Т.: 121] и оставаться в рамках пред мета и идеи повествования. Таким образом,
Представления о жанре «Потерянного рая» Дж. Мильтона… 57 автор статьи не просто находит возможным сравнение произведения «английского Гомера» [Т.: 51] с эпическими поэмами Античности и Средних веков, но и аргументирует ее преимущества именно с позиции жанровой вариации, приближающей «Потерянный рай» к тексту Священного Писания.
Синонимическими вариантами божественной поэмы выступают при характеристике «Потерянного рая» Мильтона номинации его поэмой христианской или религиозной . При этом остается неизменным понимание родовой принадлежности произведения к эпосу. Например, Ф. Шлегель, чья «История древней и новой литературы» была переведена на русский язык в 1830 г., отмечает, что «эпическое творение» Мильтона «страждет теми трудностями, которые общи всем Христианским Поэмам, имеющим предметом самые таинства веры», а «достоинство сего Эпического творения заключается не столько в плане всего целого, сколько в отдельных красотах и местах» [Шлегель: 150, 151]. Шлегель, как и многие другие исследователи, вписывает поэму Мильтона в контекст произведений Данте и Тассо.
Прямой художественной аналогией Библии считает «Потерянный рай» Мильтона Э. Фаге, автор изданного в России в 1914 г. «популярного очерка» «История всеобщей литературы»: «Мильтон — нечто вроде второй Библии для народа, для которого Библия составляет предмет ежедневного и необходимого общения» [Фаге: 60]. Он называет произведение Мильтона «типичной и образцовой религиозной эпической поэмой» [Фаге: 60]. Оценка продиктована «глубоким и пламенным» религиозным чувством, которым проникнуто произведение, а также его «замечательным величием и философским значением» [Фаге: 60]. Таким образом, в основе жанра в трактовке Фаге остаются предмет повествования, его функция, ведущий пафос и универсальность значения теста.
В. М. Фриче также относит «Потерянный рай» к религиозным поэмам по признаку ведущего конфликта и темы. Однако в его характеристике сделан акцент на роли автора в произведении: Фриче пишет о влиянии на изображение союза Адама и Евы пуританских взглядов Мильтона [Фриче, 1908:
-
64] и о параллелях между представлением военных действий в поэме и недавней борьбой «кавалеров-аристократов и пуританских армий» [Фриче, 1927: 43]. Отмеченное Фриче внимание Мильтона к военным картинам является важным признаком «героизации», то есть сохранения «особого характера эпического повествования, героического пафоса» [Яценко: 72], позволяющего видеть родовую связь с классическими образцами и источниками эпического жанра.
В русской периодике встречаются и описательные жанровые наименования произведения Мильтона. Чаще всего они даются теми авторами, для которых библейская история и общее религиозное звучание «Потерянного рая» являются главными его признаками. Например, И. И. Иванов в 1896 г. называет книгу Мильтона «поэмой на библейскую тему» (курсив И. И. Иванова. — Д. Ж., А. Т. ) [Иванов: 167] и отмечает ее популярность «среди русских исключительных любителей "божественного"» [Иванов: 141]. Ироничность тона здесь связана с характеристикой читательской публики, воспринимающей книгу как аналог Библии, тогда как, по мнению автора очерка, место ее образов (в частности, Сатаны, Евы), а также описания рая и отношений прародителей, — среди иных «любопытнейших психологических и культурных явлений европейского общества» [Иванов: 157]. Вместе с тем именно библейская тема в представлении Иванова организует сюжет и систему образов «Потерянного рая», определяет высокое его звучание и универсальное значение.
Для В. Филатова «Потерянный рай» — «великая поэма о рае», в которой за подчиненностью сюжета библейской теме укрыта символизация «великой эпохи свободы»: «…и как бы ни замыкался в себя, как бы ни уносился Мильтон в заоблачные выси, его райские сады очень напоминают Англию, его сатана командует, как хороший полковник, а в небесных схватках проглядывает боевой темперамент пуритан» [Филатов: 50]. Второй, современный Мильтону, смысловой план поэмы формируется, согласно трактовке Филатова, отчасти вопреки плану первому, религиозному. Подобная выраженность исторического момента для эпоса классического — признак не родовой, но становящийся органичным для синкретичной эпопеи Нового времени.
К отдельному направлению необходимо отнести те публикации, авторы которых выделяют в «Потерянном рае» в качестве жанрообразующих не эпические, а драматические или лиро-драматические элементы. Как пример приведем фрагмент из «Лекций о главнейших эпохах в истории поэзии…» (1849) К. П. Зеленецкого и из очерка истории английской литературы периодов Республики и Реставрации, написанного Алексеем Н. Веселовским и вошедшего в один из томов «Всеобщей истории литературы» под ред. А. И. Кирпичникова (1888). Зеленецкий, давая краткую характеристику «Потерянному раю» Мильтона, отмечает, что «план этой поэмы имеет более драматическое, нежели эпическое основание, а целое сохраняет господствующее, дидактическое направление» [Зеленец-кий: 208], очевидно, по причине выраженности в нем церковно-религиозных и политических убеждений автора, а также изображения острого конфликта сил света и тьмы. Произведение Мильтона в восприятии Зеленецкого, являясь эпическим по форме (см.: [Зеленецкий: 208]), обладает при этом сложной родовой структурой.
Интересны аргументы Алексея Николаевича Веселовского при обосновании принадлежности «Потерянного рая» к жанру «лирической драмы». Ученый начинает анализ художественного метода Мильтона исходя из пограничности его мировоззрения: с одной стороны, он связан с гуманизмом, а с другой — «стоит на почве воинствующего пуританства». Религиозные убеждения отразились на выборе темы, однако в ее обработке сказалась «любовь к классическим образцам и духу итальянской поэзии». Третьей «стихией», оказавшей заметное влияние на жанр «Потерянного рая», как его понимает Веселовский, стала «народная романтика», явленная в изображении бесов или близкой к сказочной организации жизни в небесных сферах. Самой значительной в художественном плане оказывается лирическая составляющая. По мысли ученого, Мильтон по складу натуры более лирик, чем эпический повествователь, и это принципиальным образом сказалось на жанровой структуре «Потерянного рая». При этом Веселовский традиционно называет произведение Мильтона в ряду «других поэм того же рода, наприм<ер>, риторической "Мессиады" Клопштока, созданной под мильтоновым влиянием». Ученый стремится категоризировать жанровый синкретизм «Потерянного рая», и «могучее воспроизведение современной ему (Мильтону. — Д. Ж., А. Т.) Англии», «служение интересам современности» составляет имманентно присутствующий в произведении и определяющий, по мысли Веселовского, специфику его жанра смысловой план (см.: [Веселовский, 1888: 624, 625]).
«…Мир большой литературы классической эпохи проецирован в прошлое, в далевой план памяти, но не в реальное относительное прошлое, связанное с настоящим непрерывными временн ы́ ми переходами, а в ценностное прошлое начал и вершин», — пишет в 1941 г. М. М. Бахтин [Бахтин, 2012: 623]. Это принципиальное положение применительно к поэме Мильтона «Потерянный рай» выявляет два вектора его интерпретации, оказывающих влияние на обозначение жанра. В одном случае описанное автором прошлое остается в безвозвратно ушедшем и ценится современниками как сакральная часть истории человечества, когда временной разрыв еще более усиливает значение миновавшего. При таком подходе «Потерянный рай» интерпретируется как «божественная поэма», «христианская поэма», «религиозная поэма», «поэма на библейскую тему», «великая поэма о рае» или «религиозный эпос».
В целом большинство исследователей сходятся на отнесенности «Потерянного рая» к эпическому жанру, выделяя категорию великого / высокого / величественного как жанрообразующую. И здесь в качестве синонимических выступают такие жанровые определения, как «эпическая поэма», «поэма», «эпос», «эпопея» — чаще всего без принципиального учета роли и объема лирического компонента. Но выраженность политической позиции Мильтона, последовательность раскрытия им своих морально-нравственных, религиозных, общественных взглядов в художественно-публицистическом творчестве, их неизменность оказали влияние на идейно-художественную сторону «Потерянного рая» при строгом соблюдении автором тематической и событийной отнесенности содержания произведения к библейскому прошлому. Это привело к появлению у жанровых номинаций произведения
Представления о жанре «Потерянного рая» Дж. Мильтона… 61 уточняющих коннотаций — эпопея «протестантская», эпос «английский». В этом случае ценностное прошлое может быть интерпретировано как повод критически осмыслить настоящее.
Анализ многообразия представлений о жанре «Потерянного рая» Дж. Мильтона, характерного для русского общественного сознания XIX — начала XX в. и представленного в публикациях того времени, также свидетельствует о внимании большинства исследователей к конститутивным особенностям эпоса, получившим наиболее системное отражение в трудах Александра Николаевича Веселовского.