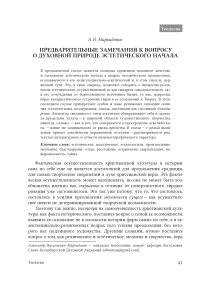Предварительные замечания к вопросу о духовной природе эстетического начала
Автор: Маркидонов Александр Васильевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 1 (72), 2017 года.
Бесплатный доступ
В предлагаемой статье делается попытка прояснить исконное качество и положение эстетического начала в недрах человеческого произволения, осознаваемого в его экзистенциально-аскетической и, в этом смысле, первичной сути. Это, в свою очередь, позволяет говорить о двоякости реальности эстетического, осуществляемой то как синдром самодовлеющего «я» в его отчуждении от божественного источника бытия, то как, напротив, образ евхаристического устроения твари в ее отношении к Творцу. В этом последнем случае приобретают особое и даже решающее значение понятия эсхатологизма, воздержания, отказа, дистанции как спутников благодарения. Элементы связанного с этим аскетизма обнаруживают себя и далеко за пределами культа - в широкой области художественного творчества, никогда, однако, - как и все, что совершается в пространстве аскетического, - извне не защищенного от риска прелести. В статье - с целью выявления примет аскетически окрашенной эстетики - рассматривается ряд текстов литературного и отчасти кинематографического характера.
Эстетическое, аскетическое, эсхатологизм, произволение, молчание, благодарение, отказ, расстояние, остранение, сакрализация, не- выраженность, тайна
Короткий адрес: https://sciup.org/140190271
IDR: 140190271
Текст научной статьи Предварительные замечания к вопросу о духовной природе эстетического начала
и культура оказываются возможны в качестве единого; но одновременно, а может быть, и прежде того, где и как заявляет о себе риск — утратить или чистоту и спасительность веры, или самую возможность ее художественно-эстетического оформления. Ведь скорее именно так, — скорее заявляет о себе невозможность, — пребывая в спасительности веры, — художественно-эстетически, поэтически ее-то именно и обнаружить.
9-й ирмос Рождественского канона преп. Иоанна Дамаскина, являя нам по своему месту в богослужебном чинопоследовании в значительной мере средоточие праздничной темы, — по лежащему на поверхности смыслу, однако предельно минимализирует, аскетически сокращает всякую возможность как-либо вообще наглядно-эстетически обнаружить или словесно — поэтически выразить суть праздничного события:
Любити убо нам яко безбедное страхом удобее молчание,
Любовию же, Дево, песни ткати спротяженно сложенныя, неудобно есть:
Но и Мати силу, елико есть произволение, даждь.
Нет нужды множить широко известные в христианской традиции примеры исходного для самой возможности говорить (!) предпочтения слову молчания1, как нет и достаточно веских оснований выносить «за скобки» всякую манифестацию такого предпочтения, числя ее всего лишь по части «литературного этикета». Ведь определяющим для такого противоречивого переживания самой нашей человеческой словесности является парадокс воплощения Бога-Слова, когда «в человечестве Христа, — как говорит Дионисий Ареопагит, — Прес у щественный явился в человеческой сущности, не переставая быть сокровенным после этого явления, или, если выразиться более божественным образом, не переставая быть сокровенным в самом этом явлении»2.
Именно потому, что становится плотию Бог-Слово, человеческому слову уже не остается никакой возможности быть предоставленным себе самому, — в том числе и в качестве платонически-тусклого отображения божественного первообраза. В христианской традиции реальность человеческого предстоит Богу не в чем-то, пусть и существенно, своем, но в самом своем существе, — как таковая. Иначе говоря, человеческая реальность есть творение: во всем своем человек принадлежит Богу, укоренен в Его творческой воле и есть, по слову св. Григория Нисского, прежде своего уклонения ко злу, «в самом своем естестве Божие некое достояние»3.
Тварность — онтологически, а восприятие человеческого естества в Боговоплощении — в том числе и исторически — ставит всякую творческую деятельность человека под знак антиномии: того, что внутренне необходимо (как спасительный образ нашего участия в бытии), и того, что естественно-исторически, изнутри и на основании начала собственно человеческого, — невозможно (по характеру нашего падшего положения в бытии)4. При этом антиномия человеческого творчества бесконечно (исторически-безысходно) осложнена фундаментальным разладом между двумя модусами осуществления бытия: бытия к Богу (и в Боге) в одном случае и бытия к себе (и для себя) в другом случае5.
В этом плане культура представляет собой более или менее эстетически внятный рефлекс перехода (восхождения или ниспадения) от одного модуса к другому. Инерция этого перехода (именно как ниспадения) коренится, таким образом, в устремленности твари к самодовлению, к метафизическому бесчинию «автаркии» разумно-свободных созданий Божиих.
В самом же характере этой устремленности трудно не увидеть, а в его мотивации — не опознать признаков эстетического в его самой общей, но и первичной прописи: в попытке пережить сущее как бесконечно податливое моему восприятию, в себе-и-для-себя обособленно-завершенное целое. Так — в этом смысле эстетически — осуществляемое рассматривание мира, — именно потому, что оно посягает на исконную онтологическую целокупность творения, — еще несет в себе бесплодно им изживаемые энергии и приметы исходной целостности. Иначе говоря, «эстетическое» здесь — еще способ самого существования, а не одна только из его характеристик. То движение духа, в соответствии с которым мир как бы исхищается из рук Творца и полагается в своевольную перспективу опредмечивающего взора, существенно эстетично именно как способ бытия. Это субъективно-присвояющее, чувственно-эстетиче-ское6 разглядывание мира и его, в такой перспективе, предметная наличность для человека автоматически соотносены в том повороте тварного бытия, который христианская традиция называет грехопадением:
«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание;
и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» (Быт 3, 6).
Надо нарочно и сразу оговориться, что эта обособляюще-опредме-чивающе-эстетизирующая инерция падшего сознания вовлекает в свою прихотливо, но цепко развернутую траекторию все — в том числе, а может быть, и прежде всего и самого ее инициатора. Она поистине ищет стать «всем во всем».
Тонкий, глубинный (и притом достаточно автоматичный) эффект коснения в моменте восприятия чего бы то ни было сущего, при всей своей элементарности, неисчерпаем изнутри себя самого, — в этом свертывании реальности к акту ее восприятия. Ведь в самом этом усилии к такому свертыванию реальности — имитация жизни, целостность которой в этом случае (эстетически) доступна мгновенно, а значит, как бы творчески, — минуя рост, историю и аскезу восхождения в полноту Божественного бытия.
То, что еще Платоном расценивалось в искусстве как помеха подлинному созерцанию бытия, в христианском Откровении приобретает существенно более острый характер — вины человека перед лицом Бога. Но «механизм» происходящего до известных пределов совпадает: как «Платон обвиняет искусство в том, что оно постоянно задерживает внутренний взор человека на чувственных образах»7, так и святоотеческое истолкование грехопадения в одном из существенных его аспектов усматривает — эстетически (как «прелесть») себя оформляющее — предпочтение чувственно-зримого духовному. Предпочтение же это в конечном счете оборачивается той зависимостью человека от твар-ных стихий, которая закрепляется в поклонении твари вместо Творца (Рим 1, 25).
Ничем изнутри не ограниченные возможности эстетической виртуализации бытия в своей сладострастной оглядчивости с равной степенью эффективности, изживающей как «чужое», так и «свое», обратно пропорциональны, однако, его (бытия) экзистенциально-смысловой весомости.
С лаконичной (и тем более холодящей душу) точностью воспроизводит, к примеру, такого рода «эстетизирующее» сознание А. С. Пушкин в 46-й строфе 1-й главы «Евгения Онегина», поэтически резюмирующей тему «демонического» в этом периоде творчества поэта:
Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований,
Того раскаянье грызет.
Все это часто придает
Большую прелесть разговору.
Подлинный трагизм человеческой судьбы поистине демонически «снимается» в заключительной паре строк, присутствуя в сознании, здесь воспроизводимом, уже только эстетически, — как «прелесть». Эта же последняя, в данном редком случае, без всякой натяжки предельно сближается с известным аскетическим смыслом этого, уютно-эстетически прижившегося в нашем сознании понятия. Прелесть — ложь, эстетически-правдоподобно, трогательно-убедительно8 имитирующая правду, отвлекая сознание от экзистенциальной сути этой правды, от извне-и-на-перед неосуществимых условий ее действительного свершения.
Риск эстетического в том, что оно изнутри своей собственной природы (как таковое) наиболее расположено скорыми, но кружными путями воображения и страсти оформлять наличность жизненного целого, как бы освобождая сознание от смирения перед незавершенной реальностью, волюнтаристически сокращая экзистенциально-напряженное расстояние между тем (сознанием) и другой (реальностью), — подменяя тем самым событие — представлением. А подмена эта — в своих глубинных посылках — опознана и трезвенно прочувствована именно аскетически. Ведь склонность поврежденного сознания опредмечивающе-за-вершать и эстетически-обособлять сущее, опустошая его в представлении (как и представлением) от его бытийственной нам неподатливости, — должна быть опознана как тщеславие. Реальность — вещи или состояния, — изъятая из никак неовнешняемой перспективы творения Божьего, лишенная своих онтологических корней, представляется здесь ее завершающему разглядыванию субъекта. Причем, как уже было замечено, оценивающе-завершающему рассматриванию (а, значит, своего рода объективации) предлежит в данном случае и сам субъект, — в его неутолимой и изнутри себя неисцелимой инерции — жить напоказ. Именно аскетически и была глубочайшим образом осознана эта универсаль-но-эстетизирующая особенность тщеславия. Ведь «самым отличительным признаком… тщеславия служит показность, делание на-показ. Этот признак обозначается многими церковными писателями (…) По предметам и формам своего проявления тщеславие отличается от прочих главных страстей. Эти последние относятся к одному какому-либо предмету или определенному кругу их, проявляются в определенной форме и поражают подвижника с какой-нибудь одной стороны, не изменяя своего порочного вида (…) Наоборот, тщеславие в отношении к его содержанию очень хорошо названо «многовещественным», так как оно обнимает почти всю вселенную; в отношении же к форме проявления оно именуется страстью многосложною, многовидною, разнообразною, нападающею на подвижника с плотской стороны и духовной, под видом пороков и особенно добродетелей (…) Борьба с этою страстью считается подвижниками самою трудною, потому что всякий подвиг, предпринятый для очищения ее, может стать «началом другого тщеславия»9.
Репрезентация жизненного целого, как бы ни была она опустошена онтологически, эстетически все еще остается возможной: эстетиче-ски-то целое и оказывается более чем выразительным, ибо — захвачено извне-и-наперед, представлено наглядно, но, тем самым, и — в отрыве от своих жизненных истоков.
Между тем безуспешно, поистине тщетно, стремление предметно обнаружить (обнажить) тайну жизненного целого. Как в событии творения ни в какой из его «моментов» тварь не опирается на нечто «уже-свое», так и ретроспекция нашего сознания (гносеологически, эстетически ли осуществляемая) ни в чем для себя не свободна: всякая феноменологическая редукция упирается в предел тварности, отчуждение от которого порождает комплекс имитирующего сознания — тще-славие.
Восх и тить состояние славы, цветения бытия, в отрыве от самих источников бытия — вот соблазн тщеславия, его демонический выверт10. Вот почему: Любити убо нам яко безбедное страхом удобее молчание, любо-вию же, Дево, песни ткати спротяженно сложенныя, неудобно есть.
Любить молчание, исполненное страха Божия, — сообразнее («уд о бее») домостроительству нашего спасения; любовию же слагать или «ткать» песни, в известном смысле устрояя свой эстетический космос, — неудобно и небезопасно.
Заметим, что греческое στεργειν (любить, почитать) — в первом случае и ποθω от ποθεω (жаждать, нуждаться, требовать) — во втором — далеко не одного смыслового ряда, — как почтительно-благоговейное хранение высочайшего Присутствия — не то же самое, что томительно-напряженное стремление вовлечь Желаемое в круг, пусть и по его именно поводу, но своих переживаний.
Если так глубоко и безысходно разведены (сотериологически противопоставлены) скользкая и уклончивая инерция «чувственной рефлексии» (эстетическое!) и предельно упр о щенная, «безбедная» только «страхом», выправка трезвенной молитвы (аскетическое!), — то как, в таком случае, оказывается возможным самое это прошение — о силе песенного дара: «Но и Мати силу, елико есть произволение, даждь»? И что есть само это прошение? Еще молитва или уже песнь? Или таинственно осуществленная возможность молитвенной песни?
Прежде всего, оно есть именно возможность (не данность), но не как онтологически-пустая и аморфная проекция человеческой свободы, а как таинственное (ничем извне не определяемое решительно) соответствие между человеческим произволением (насколько и как оно есть) и божественным даром силы.
Что же есть это произволение (προαιρεσις)? В некоторых русских переводах встречаем «усердие» как нечто близкое к «усилию», — нечто близкое к тому, чтобы растворить «волю» «силою», размывая различие между ними. «Силовое» наполнение, конечно, соотносимо с реальностью воли , но таковой далеко не исчерпывает. А там, где «воля» с «силою» отождествляется, последняя, в определенном смысле, перестает быть одномерно-тождественной себе: предел такой «силы», например, в добровольно-мученическом отказе противиться злу силою.
Пространство «произволения» (или «внутреннего расположения») является глубинным измерением взаимо-отношений Бога и человека и, как таковое, принципиально неовнешняемо и однозначно не опису-емо вне этих взаимо-отношений11. Человек здесь уже — «сокровенный сердца человек» (1 Петр 3, 4), а не объект безучастной рефлексии.
Именно в пространстве этих взаимо-отношений (Бога и человека), согласно или — «внутреннему расположению истинно добивающихся обожения», или — «выставляемому напоказ намерению лицемерно стремящихся к нему»12, — иначе говоря, — согласно образу произволения, усвояется и дар силы (поэтической мощи). Таким образом, самая стихия творчества, эта его поэтическая мощь, его бытийная весомость, возведена здесь в глубокое, таинственное, но строгое (молитвенно-аскетическое) соотношение с προαιρεσις, — и в своем художественно-эстетическом осуществлении качественно им обусловлена.
В этой связи припомним, какой подчеркнуто бессознательный (безвольный) и — тем самым именно — божественный характер являет творчество в до-и-вне-христианской, например греческой, духовной традиции, где «все хорошие эпические поэты слагают свои прекрасные поэмы не благодаря искусству, а лишь в состоянии вдохновения и одержимости…» (Платон, Ион, 533 д‒е). Также и «способность хорошо говорить о Гомере… не искусство, а божественная сила, которая… движет, как сила того камня, что Эврипид назвал магнесийским… Камень этот не только притягивает железные кольца, но и сообщает им силу делать в свою очередь то же самое, то есть притягивать другие кольца, так что иногда получается очень длинная цепь из кусочков железа и колец, висящих одно за другим, и вся их сила зависит от того камня» (Платон, Ион, 533 д‒е).
Божественность вдохновения (его благословенный характер) в христианском опыте опознается не в наличности магнетически-действен-ной силы, а как раз в первую очередь — в нравственно-освобождающем, экзистенциально-ответственном образе ее художественно-эстетического осуществления. «Какою силою творите сие?» — вопрос об источнике вдохновения (ибо «не всякому духу верьте» — 1 Ин 4, 1), тонко и напряженно соотнесенный с характером восприятия творческой силы (произволением художника), — десакрализует силу, чтимую в одной только наличности ее, но и — пропорционально — усвояет искусству (умению) уже не техническое только, а и нравственно-аскетическое измерение.
Своего рода христианскую инициацию — нравственно-аскетическое и творческое преображение человеческого произволения являет нам житие преподобного Иоанна Дамаскина (как, в определенном смысле, и житие всякого святого). Обратим внимание на ключевые в контексте нашей темы моменты житийного рассказа.
«Вследствие великой славы, возвышенного положения и почитания» Иоанна, как человека, «богатого совершенствами», никто из старцев монастыря, куда он обратился, не хотел взять его в качестве духовного ученика. «Когда вопрос о нем принял такое положение и затянулся», один из простых старцев взял на себя руководство Иоанном, говоря следующее: «Я ставлю тебе, мой духовный сын, условием, чтобы ты отбросил от себя все мирские образы и их суетные, ввергающие в заблуждение превратности. Все то, что ты будешь видеть, что делаю я, то же самое, подобно мне, делай и ты. И не возносись знанием, которое ты приобрел; знание монашеское и подвижническое не ниже его, но гораздо выше его по своему положению и мудрости. Старайся порвать с твоими увлечениями и делать то, что противоречит твоему удовольствию. Не делай никакого дела без моего указания и совета»13. Кроме того, старец заповедал Иоанну «стараться о том, чтобы не позволять рассеиваться мысли, но тщательнейшим образом сосредоточивать ее, чтобы таким образом дух напитался божественным светом, душа очистилась, тело освятилось и, наконец, тело, душа и ум так сочетались бы между собою, чтобы эти три, соединившись с простейшею Троицею, стали чем-то простым, и человек стал бы не телесным, не душевным, но совершенно духовным, когда разумным произволением две первые части обратятся в третью и первичную — разумею ум. Так советовал отец сыну, учитель ученику… говоря: „Ни к кому не посылай писем и не говори ни с кем ни слова о мирском знании, старательно упражняйся в молчании…“»14. «Итак, прошло довольно много времени, как Иоанн воспитывался у старца, подвергался всяким видам испытания, во всем обнаруживая безукоризненное послушание»15. Все это до тех пор, пока один из монахов, удрученный смертью своего брата по плоти, не уговорил преподобного сложить ему песнь, которая бы утешала его скорбь…
Боязнь нарушить заповедь о молчании (и послушании), сочувствие скорби монаха, «совершенно неспособного молчать о смерти (своего) брата», и при этом его же обещание молчать о затеянном деле — все это предельно драматизирует состояние преподобного Иоанна, скло-нившегося-таки на уговоры скорбящего и «составившего благозвучное песнопение, которое доныне устами всех поется, именно — „Все суета человеческая“»16.
Однако, в то время как однажды преподобный Иоанн пел тропарь, застал его наставник и сказал ему: «Разве я повелел тебе петь вместо того, чтобы плакать?»17
Непреложность и неизбывность этого противопоставления — плача и песни — сохраняется вплоть до обнаружения исчерпывающей, «с быстротой повиновения», готовности преподобного Иоанна понести за свое непослушание суровую эпитимию: «обойти всю площадь лавры и своими руками очистить в келлиях монахов места нечистот». Лишь после того, «узнав о великой ревности Иоанна в послушании, старец… поспешно придя к нему, обнял его, пал на его шею, лобызая его руки, его глаза и плечи. „О, — сказал он,— какого великого подвижника блаженного послушания родил я во Христе!“ Иоанн же, весьма смущенный словами старца, пал ниц пред ним, как пред лицем самого Бога, и орошал своими слезами землю»18.
И только «спустя немного дней, наставнику его явилась во сне Владычица, которая ему сказала: „Зачем это ты преграждаешь источник и мешаешь ему течь и литься. Поистине, Иоанн предназначен, чтобы своими песнопениями украшать церкви и праздники святых, и чтобы верующие наслаждались приятностью его слов. Позволь ему говорить все, что он хочет и желает: Дух Утешителя говорит языком его“»19.
Спонтанность поэтического вдохновения, позволенность «говорить все, что хочешь и желаешь», а вместе с нею и (нравственно-аскетически как будто немыслимая) возможность эстетически («приятно») оформлять бытие, как бы со-растворяя плач и песню, — все это — лишь в конце пути, на пределе произволения, которое само есть некий предел, актуально переживаемая граница естества. Все это — только в конце пути или — что то же самое — в глубине произволения, где оно тождественно готовности к отказу , в свете которого творческая свобода осуществляется не как результат самих по себе человеческих (в том числе и аскетических) усилий, но — как безусловный дар Божий — в таинственном соответствии с благо-дарно-смиренномудренным устроением души.
Все же естественные или естественно приобретенные совершенства вменяются в ничто там, где речь идет о совершенствовании самого нашего произволения, об исправлении его в том первичном повороте бытия, где это наше бытие экзистенциаль но-осязаемо как нам-не-принадлежащее,
— как творение и дар. А это возведение бытия в соответствие с его твар-ной природой — его, тем самым, исцеление — совершается по мере «внутреннего расположения» вместе и к «молчанию» (созерцательно-мистически), и к «послушанию» (нравственно-аскетически)20. Заметим, что то и другое (молчание и послушание) ориентировано, по-своему, но равно эсхатологически, — в том смысле, что — экзистенциально обнаруживает человеческое естество, как в его тварной о-граниченности, так и тварной (ничем изнутри самого естества необеспеченной, но реальной) укорененности в творческой воле Вседержителя.
Эсхатологизм универсально окрашивает и оформляет библейско-христианское сознание именно в связи с откровением о творении, во-первых, и — с воплощением Бога-Слова, во-вторых. И только уже в-третьих, в связи со вторым Пришествием Спасителя, которое мыслится и ожидается при этом как παρουσια — как завершающее историю явление уже присутствующего в ней Бога. Именно присутствие Бога в творении и истории задает тому и другому вечно-новое, глубинное, сверх-при-родное (и мета-историческое) эсхатологическое измерение, в котором только они и обретают (причем, космос и история в таинственном соответствии — 2 Петр 3, 3‒13) свой смысл и свою (собственную) целостность, иначе говоря, — совершаются .
Христианская аскеза эсхатологична именно в этом смысле, — как образ устроения естества в согласии с живым присутствием Бога в творении и истории, таинственно соотнесенных в совершении спасения (Рим 8, 19‒23). А тем самым и христианское сознание в целом — глубоко аскетично по духу веры в живого Господа, Который пришел, Который приходит, Который придет.
Надо решительно подчеркнуть, что эсхатологизирующее христианское сознание переживание нашей тварности не может быть как бы то ни было (гносеологически или эстетически) объективировано, — как оно не может быть изъято из всегда онтологически (и сотериологически одновременно!) значимой соотнесенности с Творцом. Воля к объективации тварности — где бы она не проявлялась — не может не быть предварена своеволием по отношению к Творцу. Известный фрагмент из Послания апостола Павла Римлянам (1, 19‒24) как раз и вскрывает духовную этиологию того сдвига в религиозном сознании древних к своеволию, который в различных формах язычества является исторической и нравственно-психологической проекцией грехопадения. «…Познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили», — говорит Апостол. «Прославление» и «благодарение» здесь — не цена, возмещающая бытийность твари (дар бытия невозместим, ибо незаместим ничем), не реплика подневольной признательности, но — образ существования.
Познание, сколько-нибудь — для себя онтологически зн а чимо — опережающее прославление , не есть уже и познание «Бога как Бога». Оно из того рода знания, о котором Апостол говорит, что «знание надмева-ет, а любовь назидает», ибо «кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как д о лжно знать» (1 Кор 8, 1‒2).
Познание, изымающее нас в нашей тварности из благодарно (евхаристически) устрояемого предстояния Богу, отчуждает нас от нашей собственной сути — превращает естество.
Таким образом, «совпадение» эсхатологического и аскетического в христианском сознании — не тавтология: оно глубоко евхаристично . Благодарение есть то устроение произволения, в котором оно всецело и во всем согласно своей тварной бытийной основе. Но и само «благодарение» сплошь аскетико-эсхатологично, — там и до тех пор, пока оно не выродилось в свою (аскетически близкую!) противоположность — тщеславное любование. Грань или внутренний предел (εσχατον) в самом благодарении, о который разбивается агрессия тщеславия, — готовность утратить дар, принять отсутствие как присутствие, — причем не из надменного безразличия к «иному, чем я»21, а — напротив! — из благоговейной верности Источнику бытия.
Аскетико-эсхатологическое восприятие сущего в модусе — оберегающего сущее в тайне его тварности — отказа одно только постигает бытие сущего, — возводит нас в просвет бытия, не нарушая (не овнешняя, как будто бы это было возможно) его тайны. Ведь «перед нами всегда два пути, — говорит В. В. Бибихин, — на одном — просвет это пустая нейтральная полоса, позволяющая с нашей стороны просвета смотреть на другую сторону, со стороны субъекта на объект, открытый просветом для понимания и покорения. — Другой просвет неотделим от тайны, он и есть свечение тайны в каждом сущем, в каждом нашем отношении к сущему; здесь — готовность заметить, встретить и принять отказ сущего открыться, каждый раз заново открываемые им стороны своего, собственного, неприступность своей свободы — … в любом и каждом сущем. И мы тогда ведем себя так, как велит свобода сущего, дожидаемся ее, помогаем ей, создаем ее, охраняем и позволяем действовать самой. Просвет тем упрочивается — вместе с распространением тайны»22.
Отказ (и как его синоним — молчание ) или «готовность утратить» коррелирует, как оказывается, с « отказом сущего открыться» — с тайной как способом бытия сущего, образом его присутствия.
Эсхатологически (и евхаристически) ориентированное состояние «готовности утратить» — ответчиво, но не вызывающе отказаться — описывает апостол Павел: «Время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего» (1 Кор 7, 29‒31).
Прагматико-аскетический смысл назидания (в согласии с общим контекстом фрагмента) был бы значим исчерпывающе, когда бы мы имели моральное право и историческую возможность сблизить (или хотя бы соотнести) образ первенствующего христианина эпохи гонений с феноменом неврастенически-расслабленной, пораженной тотальной неуверенностью психики. Только если смысл прагматико-аскетический («быть без забот») подчинен нравственно-эсхатологическому (во всем благодарной верности Самому Христу, от Которого и через Которого все. Ср.: Филип. 3, 8), — проясняется непостижимая возможность — «покупать, как не приобретать», «пользоваться миром сим, как не пользоваться», — то есть в благодарной открытости с недвоящимся сердцем участвуя в делах преходящего мира, — преходящего не держаться , не томить себя «смущающею заботою»23.
Так переживаемое бытие не только не теряет своей экзистенциальной полноценности, но и неожиданно (в модусе дарения восприемлемое) получает некое новое измерение, некий сверх-природный экзистенциал,
-
— оно приобретает значение утешения. В этом именно смысле, само бытие эстетически окрашивается (расцветает и светится славою Творца), но тем самым и эстетическое уже не соревнует бытию (как его себе-дов-леющая имитация), но зн а менует (здесь — аскетико-эсхатологически, в Боге — творчески) царственную полноту жизни.
Об утешительном смысле поэтических творений св. Иоанна Дамаскина говорит Сама «воспетая» им «честнейшая Богоматерь», обращаясь к наставнику преподобного: «Зачем ты заградил источник, могущий изливать воду столь приятную, столь прозрачную, столь обильную и живительную, — воду, дающую утешение душам, воду, превосходящую ту, которая чудесным образом в пустыне истекла из скалы (Числ 20, 11), воду, которую желал пить Давид (Пс 41, 2), воду, которую обещал сама-рянке Христос (Ин 4, 10)».
Тема живительной воды, дающей утешение душам, органически соотнесена здесь с новозаветной, а тем самым и литургической — эсхатологически напряженной — пневматологией. Как в крещении действенно зн а менуется смерть греховного произволения и возрождение — «от воды и Духа» — произволения к добродетели, так и в человеческом творчестве дары Святого Духа подаются в ответ на нешуточную готовность послушания, являющего молчаливую собранность духа. «И глядя на Иоанна, можно было сказать, что он теперь возвращается в райский Эдем. Изобразив сначала в себе древнего Адама преслушанием, он затем изобразил в себе и нового Адама, то есть Христа, своим высшим послушанием»24.
Если отступить от житийного образца в широкую область неоднородной и противоречивой стихии художественного опыта, то и в ней приметы названного образца ненавязчиво — то в одном, то в другом случае — дают о себе знать, опознаются при внимательном вникании в смысловую ткань художественного произведения. Аскетическое предвосхищение и глубинная религиозная мотивация в данном случае не имеют, конечно, дисциплинарного в собственном смысле оформления (как это имело место в житийном образце), но тем не менее пропитывают время и / или пространство художественного текста, сказываются в его эстетическом событии, приоткрываются иногда в характере раскрытия ведущей темы.
Так, например, мистико-аскетическое по существу воздержание от слова — от явленности в слове «внутреннего человека» (2 Кор 4, 16; 1 Петр 3, 4.), уже отмеченное нами, — как глубинное предварение подлинного высказывания, как единственно оправданный способ человеческого устроения в ответ на Божественное воплощение, — это воздержание от слова может быть спроецировано в область самой словесности, в ней самой художественно-эстетически осуществиться. Особенно выразительно это происходит, когда речь идет о собственно религиозной или религиозно-окрашенной тематике. Аскетическое нередко выступает здесь как то, что может быть названо «благодатью расстояния», — переживанием бесконечной значимости известного жизненного (иногда, прямо религиозного) содержания через экзистенциальное дистанцирование от него — через разные формы остранения.
Понятие остранения используется здесь в самом широком и, может быть, отчасти специальном смысле. Ближайшим образом, всякий диссонанс или расхождение с ведущей темой, всякое ей ее приглушающее — семантическое, аксиологическое или только психологическое — несоответствие служит, как нам кажется, такому остранению ведущего (в нашем случае религиозно ориентированного) смысла, вследствие которого смысл этот воспринимается и переживается с новой остротой и одновременно с ощущением неисчерпаемости и даже трансцендентности в своей последней глубине. Будучи изъятым из «автоматики восприятия», из области привычной узнаваемости, он (смысл) открывается новому видению, но — в своей новизне и дистанцированности одновременно25.
Глубинной собственно религиозной основой такого дистанцирования является острое переживание несоответствия человека открывающейся перед ним, а иногда и в нем самом, святыни Божиего присутствия. Так, «Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный» (Лк 5, 8). Здесь внутренняя нужда в расстоянии между человеком и Богом не отчуждает, не разрывает связи (ибо «припал к коленям Иисуса»), а скорее — освобождает «место», прежде всего в самой человеческой экзистенции, присутствию Божию, ограждая это присутствие от человеческого недостоинства.
Но нравственно-религиозное качество этой темы — расстояния, дистанции как способа восприятия и охранения (охраняющего восприятия) святыни — сродни и правде подлинно эстетического начала, проясненного и выверенного в своей духовной сути. Ведь «красота, — по словам Симоны Вейль, — плод, который мы разглядываем, не протягивая руки». А потому, — как скажет она же, — «расстояние — душа прекрасного»26.
Охранение тайны бытия и смерти через недоговоренность, незавершенность и неоднозначность художественной (в данном случае) речи, как бы вобравшей в себя экзистенциал расстояния , — само, таким именно образом, служит выражению присутствия27. Остранение в области художественной речи или препятствует сакрализации известного содержания, или — если двигаться в обратном направлении смысла — мешает выступить в качестве привычно-освоенно-сакрального тому в тексте, что исконно именно таково (сакрально), но только за пределами текста — в пространстве культа, но не культуры.
Присмотримся с этой точки зрения, предполагающей увидеть аскетическое начало — воздержания или дистанции — в формах художественного высказывания, к некоторым конкретным текстам, в первую очередь литературного и отчасти кинематографического характера.
«Студент» А. П. Чехова — рассказ, который сам автор расценивал как залог своего жизненного оптимизма28, построен по вполне ясному принципу смыслового диссонанса между началом и концом. Мотив жизненной безысходности, бесплодности и бессмысленности русской истории, жестко и безраздельно заявленный в начале рассказа, в своей универсальности как бы отсылает нас подспудно к суровой мудрости библейского Екклезиаста: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Еккл 1, 9). «…Студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод; такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой»29.
Связующий же смысл человеческой жизни и истории приоткрывается не в самой по себе внешней ее фактуре, а в доступе к событию , являющемуся источником связи и смысла, как таковых, — к евангельским судьбам любви, жертвы, верности или предательства. И самый этот доступ к «месту» свершения и смысла человеческой судьбы лежит опять-таки не во внешней истории самой по себе, а в области «изволений сердца человеческого» и открывается в меру сердечной отзывчивости человека на происходящее в истории евангельской. «Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, чт о происходило в душе Петра»30.
Чехов таким образом возводит смысловые линии рассказа к событию сакральному — и в этом качестве, являясь историческим по факту, оно превосходит историческое по смыслу, — но само это евангельское событие (отречения и раскаяния апостола Петра) он дает опосредованно — не в богослужебном действе, рассказанном от автора, а через пересказ студента. Тем самым автор одновременно и дистанцируется от сакрального, сохраняя его в его несоизмеримости с повседневно-историческим, и вводит читателя в область доступа к сакральному и даже соучастия в нем, — дистанцируется приближая и приближает дистанцируясь.
Мало того, и самая сопричастность сакральному событию, — как некоему преданию истины, — сохраняет и даже несколько утрирует элементы остранения по отношению к нему. Он «думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-ви-димому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, — ему было только двадцать два года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла»31. Это срастворение мотивации духовного озарения возможному и, как возможность, чуть ли не выходящему на передний план естественно-психологическому содержанию (чувству «молодости, здоровья, силы, — ему было только двадцать два года») снова остраняет сакральное (и сопричастность ему) в его собственную, художественно-эстетически никак до конца не объемлемую область.
Чтобы не сложилось впечатление, что остранение сакрального в данном случае просто идет на поводу секуляризирующегося сознания и может быть отождествлено с десакрализацией, обратимся к примеру из текста, заведомо свободного от какой бы то ни было секулярности. «Лавсаик» — повествовательный сборник своего рода житийных «клейм» (эпизодов) Ⅴ в. — рассказывает, в частности, о некоем Павле Простом, который, будучи уже немолодым, стал жертвой супружеской измены и, оставив мир, отправился в пустыню к преподобному Антонию Великому. Но прежде чем быть принятым в сподвижники, Павел был подвергнут Антонием строгим испытаниям. Описывая одно из них, рассказчик пишет: «Итак, поставив стол (после длительных утомительных трудов. — А. М.), вносит он хлебы. Положив паксамады по шести унций каждая, Антоний себе размочил одну (а были они черствы) и ему три. И затягивает Антоний псалом, который знал наизусть, и поет его двенадцать раз подряд, а после двенадцать раз повторяет молитву, чтобы испытать Павла; а тот знай себе молится с усердием»32. Усердию же этому дается вдруг неожиданная в житийного рода тексте вполне буднично-психологическая и даже несколько ироничная мотивация: «Я думаю, что старик рад был бы скорпионов пасти, лишь бы не делить жизнь с распутною женою»33. Такая заниженная мотивация создает ощущение своего аксиологического несоответствия религиозному подвигу или какому-либо религиозному содержанию вообще. Подобного рода вещи являются наиболее целомудренным, свободным от субъективизма или дидактического морализма, подлинно аскетичным в этой своей свободе способом остранения религиозного начала, — соблюдение его в его собственной, никогда не растворимой до конца в чем бы то ни было человеческом сокровенности.
Сакральность текста, его собственное положение, собственный тропос сохраняется в ткани человеческой естественности (и даже профанно-сти) через актуализацию границ его несоответствия этой естественности и, с другой стороны , — через самое переживание ее инаковости сакральному началу.
Так, в «Сталкере» Андрея Тарковского текст Апокалипсиса существенно остранен (проговорен как бы «косвенной», а не «прямой» речью) несколькими обстоятельствами своего ближайшего контекста. Во-первых, Апокалипсис озвучен голосом Жены Сталкера — из ее, в данном случае, внесюжетного и закадрового «места». Во-вторых, текст появляется сначала на грани, а затем и внутри сна, в который погружаются, кстати сказать, как раз на время чтения Апокалипсиса (время конечных свершений) все трое паломников. И, наконец, в-третьих, — пророческий текст озвучивается довольно беглым невыразительным чтением, в середине и конце внезапно прерываемым легким непродолжительным смехом, остраняющим (предельно дистанцирующим) сакральное содержание. Смех, как и другие выше указанные обстоятельства прочтения апокалиптического текста, продуцирует, обнажает и интонирует непостижимое расстояние между сакральным содержанием и каким бы то ни было естественно-человеческим, художественным, в данном случае, способом его высказывания, а значит и — присутствия в пространстве собственно человеческой экзистенции34. Само же это пространство представлено видеорядом: «Вода. В ней видны шприцы, монеты, картинки, бинт, автомат, листок календаря, рука Сталкера в воде»35 — этим символико-эмблематическим реестром цивилизации.
Пробуждение Сталкера, как и, вскоре после, его спутников, также сопровождается чтением сакрального текста — на этот раз одного из воскресных евангелий (Лк 24, 13‒31). Воля к продолжению пути — к преодолению своей вовлеченности в круговую поруку зла и смерти, связавшую и подчинившую себе энергию человеческой культуры, — коренится в Евангельском событии, в превозмогающем время событии встречи с воскресшим Спасителем. Участники нашего паломничества внятно соотносятся с участниками путешествия в Эммаус, о котором рассказывает названное Евангелие: по мере чтения текста, просыпается сначала Писатель («глаза их были удержаны. — Писатель просыпается, смотрит на Сталкера»), а затем и Профессор («Один из них, именем…— Профессор лежит с открытыми глазами и внимательно смотрит на Сталкера»).
Но этому отождествлению героев «Сталкера» с евангельскими путниками идет навстречу, но как бы и вопреки, все та же остраняющая присутствие сакрального в профанном тенденция актуализации несоответствия значимости текста и форм его высказывания. Евангельский текст произносится шопотом , что дважды, как условие прочтения, отмечено в сценарии, и — прямо «неразборчиво» или с пропуском — там, где должны были прозвучать названия и имена.
В рассуждении о музыке, с которым Сталкер обращается к проснувшимся спутникам, снова подчеркнута дистанция (несоответствие), в этом случае — между музыкой и действительностью. «Она и с действительностью-то менее всего связана, вернее, если и связана, то безыдейно, механически, пустым звуком». Музыка инакова по отношению к действительности подобно тому, как сакральное инаково и недоступно для любых, художественных в частности, усилий его оформления. «И тем не менее, — продолжает Сталкер, — музыка каким-то чудом проникает в самую душу! Что же резонирует в нас в ответ на приведенный к гармонии шум?»
Наладить естественную связь, установить непрерывное сообщение между музыкой и действительностью нельзя. Ввести музыку в действительность посредством самой действительности невозможно, но «каким-то чудом», предваряемым актуализацией инаковости, а не иллюзорным сглаживанием ее, — «музыка проникает в самую душу».
Так же и сакральное , не размываемое сокращением дистанции от него, а напротив — усилиями «косвенной речи» — в этой дистанцированности утверждаемое, — «проникает в самую душу», делает нас участниками священной истории.
Именно так обнаруживает себя логика художественного этоса Андрея Тарковского в ее отношении к сакральному началу: приобщение этому началу или включение его в контекст человеческой естественности сопровождается одновременно дистанцированием от исходных ( культовых ) форм его манифестации — в профанном оно присутствует как бы анонимно. Сокращение дистанции в данном случае не приближало бы нас к сакральному, а только наращивало бы тенденцию к его обмирщению и тем самым — инверсии. Примеры подобного, сокращающего или же вовсе элиминирующего дистанцию, остранения (а с этим, надо заметить, и связано первичное значение названного понятия) будут приведены нами позднее.
Прежде того надо отметить, что не только сакральное, как таковое, но и сокровенно человеческое (в этой своей сокровенности сопричастное или соотносимое святыне ) нередко обнаруживает себя в художественном тексте остраненно — как бы косвенной речью, — сопутствующей святыне сокровенного аксиологической, стилистической, психологической или сюжетной инаковостью (несоответствием) данного — выдвинутого на передний план или обрамляющего ведущую тему повествования.
Так, если вернуться к «Сталкеру» Андрея Тарковского, глубинно человеческое и прямо чудесное, — по существу же, человек в его способности к чуду, — обнаруживают себя здесь в оберегающе-выявляющих их формах остранения, через видимое несоответствие.
Стихотворение Тютчева о любовной страсти в финале фильма рассказывается дочерью Сталкера («Мартышкой»). Содержанию стихотворения, его чувственному накалу («Глаза, потупленные ниц / В минуты страстного лобзанья, / И сквозь опущенных ресниц / Угрюмый, тусклый огнь желанья») сама рассказчица не соответствует: она чуть только подросток, калека, «у нее, — как подчеркнуто в сценарии, — замкнутое, невыразительное лицо». Да и голос ее, при ее присутствии в кадре, слышен все-таки из-за кадра, когда сама она, ни разу не заговорившая по ходу сюжета, и теперь лишь «безжизненно шевелит губами».
Смысл указанного несоответствия несколько проясняется, если мы припомним, как значительно раньше звучит тема страсти во внутреннем монологе Сталкера. «Пусть они поверят. И пусть посмеются над своими страстями; ведь то, что они называют страстью, на самом деле не душевная энергия , а лишь трение между душой и внешним миром. А главное — пусть поверят в себя и станут беспомощными, как дети, потому что слабость велика, а сила ничтожна…» Стало быть, — и это созвучно аскетически выверенной антропологии святых отцов, — есть страсть как чувственное восприятие внешнего и есть страсть как внутренняя «душевная энергия». Они противопоставлены: одна — ищет силы и обладания — и это «спутники смерти», другая — присутствует и действует в формах детской беспомощности, незащищенности, слабости, которые одни способны соблюсти и выразить «свежесть», первичную тайну и энергию бытия. «Черствость и сила — спутники смерти, гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому что отвердело, то не победит». «Довольно для тебя благодати Моей, — говорит Господь апостолу Павлу, — сила моя в немощи совершается» (2 Кор 12, 9).
Несоответствие дочери Сталкера, в ее предельной беспомощности, чувственной любовной теме тютчевского стихотворения уже само по себе отсылает нас к теме внутренней энергии самого бытия, свободной от «внешнего мира». Сама же эта свобода от «внешнего мира» позволяет и в нем действовать без какого-либо к нему пристрастия, — именно изнутри своей от него свободы, а не по факту рабской к нему привязанности, — распоряжаясь им из царственной от него независимости. Об этом финал фильма. «На столе стоит посуда. Мартышка смотрит на нее — и под этим взглядом по столу начинают двигаться… сначала стакан, потом банка… бокал. Скулит собака. Бокал падает на пол. Девочка ложится щекой на стол».
Но и теперь торжество ведущей темы — обретение человеком своей «душевной энергии» — не сказывается в открытой манифестации, а вновь остраняется побочным естественным, несоответственным возвышенности происходящего мотивом. «Грохочет мчащийся поезд. Дребезжат стекла». Как в первых кадрах фильма, где лишь намечено движение посуды по столу — в унисон и как будто по причине грохота поезда, — так и теперь это «естественное сопровождение», не отменяя телекинеза, все-таки приглушает, несколько растворяет в «обычном» его демонстративную инаковость, — утверждает дистанцию между нами и чудом. Так же и «Ода к радости», постепенно нарастая «все громче», не господствует в финале безраздельно, уступая значительную долю присутствия все тому же «дребезжанию стекол».
«Несоответственные» формы выражения ведущей темы, на наш взгляд, сродни здесь у Андрея Тарковского тому способу богословского высказывания, который Дионисий Ареопагит определял как «неподобное подобие». Дионисий, как известно, настаивал, что образы, заведомо Богу несоответственные, наиболее апофатически подходящи для свидетельства о неизреченном Божественном превосходстве. Поскольку «утверждения, — говорится в книге „О небесной иерархии“, — не согласуются с сокровенностью невыразимого, для невидимого более подобает разъяснение через неподобные изображения»36.
«Невыразительность» или прямо невыраженность в отношении к глубинным человеческим переживаниям оказывается наиболее религиозно-напряженной формой такого «неподобного» изображения.
«Ты знаешь знаменитые истории о любви? — говорит Горчаков в „Но-стальгии“ Андрея Тарковского. — Классические. Никаких поцелуев. Никаких поцелуев, ну совсем ничего. Чистейшая любовь. Вот почему она великая: невыраженные чувства никогда не забываются»37.
Примером изображения такой «чистейшей любви», опытом высокого религиозного напряжения, целомудренным сообщением «сокровенно невыразимого» является одно из стихотворений Афанасия Фета:
В темноте, на треножнике ярком
Мать варила черешни вдали… Мы с тобой отворили калитку И по темной аллее пошли.
Шли мы розно. Прохлада ночная
Широко между нами плыла.
Я боялся, чтоб в помысле смелом
Ты меня упрекнуть не могла.
Как-то странно мы оба молчали
И странней сторонилися прочь…
Говорила за нас и дышала
Нам в лицо благовонная ночь.
Стихотворение А. Фета овеяно глубочайшей тишиной, погружено в молчание, изнутри которого с величайшей осторожностью проступают слова, не нарушающие молчания, но охраняющие его: они здесь — словесное изваяние молчаливой тайны целомудрия.
Мотив расстояния, нарастающей дистанции между «ним» и «ею», между «я» и «ты», существенно оформляет художественное целое стихотворения, — так, впрочем, что все это живое многослойное пространство расстояния оказывается насыщенным ощущением глубокой близости, и самое расстояние переживается как образ присутствия Другого — как благодать расстояния.
Образ яркого треножника «в темноте… вдали» задает перспективу простора, которому вверяются двое, воспринимая динамику расстояния, уже и нравственно-экзистенциально окрашенного, внутрь своих отношений. Они отдаются простору («отворили калитку») и «темной аллее», но при этом тьмой и расстоянием облекая в тайну, едва ли и не для самих себя, чувство сокровенной близости друг к другу. «Как-то странно мы оба молчали / И странней сторонилися прочь…»
«Любовь постоянно углубляет свою сокровенную тайну, — пишет Мартин Хайдеггер Ханне Аренд. — Близость есть бытие в величайшем отдалении от другого — отдалении, которое ничему не дает исчезнуть, но помещает „ты“ в прозрачное, но непостижимое лишь-здесь (Nur-Da) откровение. Когда присутствие другого вторгается в нашу жизнь, с этим не справится ни одна душа. Одна человеческая судьба отдает себя другой человеческой судьбе, и чистая любовь обязана эту самоотдачу сохранять такой же, какой она была в первый день»38.
Предельное остранение, — абсолютная неизреченность сокровенного чувства, его полнота, заключенная в молчание, — «об- личаются» , разрешаются или сказываются , наконец, в стихотворении Фета в горизонте иного, уже не человеческого, а космического логоса: «Говорила за нас и дышала/ Нам в лицо благовонная ночь».
Только невыраженные чувства, — только соблюденное в тайне молчания способно обрести язык мироздания, осуществиться в меру его, Богом благословенной, подлинности. Интимно-человеческое остранено природно-космическим, в нем и через него приоткрыто, но тем самым и сохранено в своей человеческой сокровенности.
Вот еще небольшой, исполненный простоты и благородства пример такой целомудренной передачи драматичности человеческих переживаний через их остранение в природном из стихотворения Арсения Тарковского:
…Сегодня пришла, и устроили нам
Какой-то особенно пасмурный день,
И дождь, и особенно поздний час, И капли бегут по холодным ветвям.
Ни словом унять, ни платком утереть…
Драматизм происходящего сказывается, минуя обыкновенно напрашивающуюся сюда психологию , а тем самым минимализируя овнеш-няюще-повествовательное начало поэтического изображения, — неожиданно, внезапно срастворяя подробно-предметно описанному внешнему лаконично обозначенное внутреннее ( «Ни словом унять, ни платком утереть»).
Внутреннее , интимно-человеческое, сближенное с природным и приоткрываясь через это сближение, остается потаенным в своей инаковости внешнему , в том числе и объективирующему началу психологического описания, — остается «сокровенно невыразимым».
Бывает, однако (и это как раз теоретически исконный тип остранения как такового), что остранение служит в пользу сокращения дистанции по отношению к «сокровенности невыразимого» или максимально сближает естественно-человеческое и сакральное. Примером этого последнего может быть, как нам кажется, замечательное стихотворение Арсения Тарковского «Первые свидания», звучащее в фильме «Зеркало», который, кстати, сам режиссер с течением времени воспринимал как излишне насыщенный выразительными средствами39.
«Первые свидания» хорошо прочесть на фоне и в сравнении с выше приведенным стихотворением Афанасия Фета.
Свиданий наших каждое мгновенье Мы праздновали, как богоявленье, Одни на целом свете. Ты была Смелей и легче птичьего крыла, По лестнице, как головокруженье, Через ступень сбегала и вела Сквозь влажную сирень в свои владенья С той стороны зеркального стекла.
Когда настала ночь, была мне милость Дарована, алтарные врата Отворены, и в темноте светилась И медленно клонилась нагота, И, просыпаясь: «Будь благословенна!» — Я говорил, и знал, что дерзновенно Мое благословенье: ты спала, И тронуть веки синевой вселенной К тебе сирень тянулась со стола, И синевою тронутые веки Спокойны были, и рука тепла.
А в хрустале пульсировали реки, Дымились горы, брезжили моря, И ты держала сферу на ладони Хрустальную, и ты спала на троне, И — Боже правый! — ты была моя.
Ты пробудилась и преобразила Вседневный человеческий словарь, И речь по горло полнозвучной силой Наполнилась, и слово ты раскрыло Свой новый смысл и означало: царь .
На свете все преобразилось, даже
Простые вещи — таз, кувшин, — когда Стояла между нами, как на страже, Слоистая и твердая вода.
Нас повело неведомо куда.
Пред нами расступались, как миражи, Построенные чудом города, Сама ложилась мята нам под ноги, И птицам с нами было по дороге, И рыбы подымались по реке, И небо развернулось пред глазами…
Когда судьба по следу шла за нами, Как сумасшедший с бритвою в руке.
Интимно-человеческое здесь, у Арсения Тарковского, не остране-но природно-космическим, а само приобретает космический масштаб («И тронуть веки синевой вселенной/ К тебе сирень тянулась со стола…»); «душевная энергия» глубинно человеческого (вспомним «Сталкера») не ищет здесь облечься немощью и невыразительностью, ее царственная мощь властно и демонстративно подчиняет себе и преображает естество природы и вещи обихода.
У Фета чувство близости остраняется своего рода расстоянием страха и благоговения, дистанцией целомудрия: «сокровенное» дает знать о себе только в «отраженных» — несоответственных, неподобных самой близости жестах человеческого поведения («Как-то странно мы оба молчали / И странней сторонилися прочь…»). В «Первых свиданиях» доступ ко внутри-сокровенному инициирован «смело и легко» и само внутреннее («та сторона зеркального стекла») оказывается здесь одновременно и собственно-человеческим, и сакрально-литургическим («Когда настала ночь, была мне милость / Дарована, алтарные врата / Отворены, и в темноте светилась / И медленно клонилась нагота…»).
Там, у Фета, «отворили калитку» в пространство расстояния, хранящего тайну человеческой интимности, здесь, у Тарковского, — «отворены алтарные врата»: тайна человеческого («как богоявленья») сближается с таинством священного , отождествляется с ним, а оно, в свою очередь, в событии поэтическом не может не стать только формой выражения человеческой экзистенции.
Однако и в самом стихотворении эта возвышенная, но рискованная претензия — сакрализации человеческого — увидена именно как претензия, диссонирующая с реальным уделом человека — с его судьбой, которая тем более трагична, чем менее осознан зазор ( расстояние) между человеком и святыней, к которой он оправданно стремится. Вот почему «Судьба по следу шла за нами, / Как сумасшедший с бритвою в руке».
Спустя годы после написания «Первых свиданий» Арсений Александрович говорил: «Сейчас мне это стихотворение кажется слишком раскошным. Иногда посмотришь на свои книги „со стороны“ и отворачиваешься от них в тягостном смущении»40.
Конечно, даже почувствовать эту «роскошность» (излишество близости к «сокровенной невыразимости» — как собственно религиозного, так и глубинно человеческого начала) мог только религиозно одаренный, религиозно чуткий художник.
Гораздо более агрессивную форму остранения — через предельное сокращение дистанции с описуемой реальностью, через выхолащивание в ней ее «привычной» многозначности — мы находим у Л. Н. Толстого. «Прием остранения у Л. Н. Толстого, — говорит В. Б. Шкловский, который и описал само это явление, — состоит в том, что он не называет вещь ее именем, а описывает ее, как в первый раз виденную, а случай — как в первый раз происшедший…»41
Вообще Лев Толстой хорошо чувствовал и понимал невыразимость интимно-человеческого: эталонной в плане применения «косвенной речи» для выражения сокровенного является сцена объяснения в любви Левина и Кити в «Анне Карениной». Но в отношении к традиционной религии, как и некоторым формам человеческой деятельности, Толстой утрированно, с дидактической навязчивостью применял механизм «прямой речи», устраняя даже самую возможность дистанции, а значит, и — смысловой непроницаемости описуемого. Им руководило в данном случае убеждение в том, что известная область человеческой деятельности (например, церковь, государство, опера, поэзия и т. д.) возникла в результате отчуждения от некоего подлинного, естественного первичного существа жизни и тем самым представляет собой фальшь и подмену.
Демонстративная редукция реальности к ее, так сказать, «первичной наготе» — максимально возможной свободе от смысла (точнее, от всегда субъективной воли к осмыслению) — выглядит у Толстого как движение от «духа» к «букве», от духовного к физическому, от многозначности события к агрессивной самотождественности обнаженного факта.
«Всякий, — пишет В. Б. Шкловский, — кто хорошо знает Толстого, может найти в нем несколько сот примеров по указанному типу. Этот способ видеть вещи выведенными из их контекста привел к тому, что в последних своих произведениях Толстой, разбирая догматы и обряды, также применил к их описанию метод остранения, подставляя вместо привычных слов религиозного обихода их обычное значение; получилось что-то странное, чудовищное, искренно принятое многими как богохульство, больно ранившее многих. Но это был все тот же прием, при помощи которого Толстой воспринимал и рассказывал окружающее. Толстовские восприятия расшатали веру Толстого, дотронувшись до вещей, которых он долго не хотел касаться»42.
Итак, есть, по крайней мере, два способа остранения реальности в художественном опыте. Один дв и жим переживанием инаковости сущего, опознает сокровенное как странно и недосягаемо присутствующее, не дающееся волюнтаризму авторской власти и сказывающееся как бы издали — в разного рода «неподобных подобиях», — как, по слову Хайдеггера, «далекая близость изначального»43. Другой — тяготеет к дидактизму «прямой речи», интимное или святое (то есть по определению — «отделенное») освоивает на территории непосредственно доступного, своевольно изымая его из его аксиологической и экзистенциальной потусторонности.
Между двумя полюсами, двумя способами художественного видения пролегает широкая область трудно определимой «середины», но и она имеет свое духовное напряжение, свою смысловую направленность. Вектор этой направленности может и не просматриваться в своем религиозном содержании и уж тем более не соотноситься прямо с доктринально выверенными теологемами традиции, но его духовное качество, так или иначе, сказывается в самой художественной онтологии произведения, — в мере, образе и изначальной экзистенциальной мотивации того усилия преодоления меонически сущего, того предчувствия правды, в которых искусство обретает свой смысл.
В конечном счете, в своем религиозном задании и религиозном свершении, указанная выше поляризация художественного в и дения невульгарно, нетривиально, но и строго недвусмысленно соотносится с парадигмой поляризации библейской. Там также дают себя знать два способа видеть. Почти исчерпывающе идентичны выражения, в которых Священное Писание открывает, с одной стороны, внутреннее пространство грехопадения (και ειδεν η γυνη οτι καλον... «И увидела жена, что дерево хорошо…» — Быт 3, 6), а с другой — божественное удостоверение царственной (в том числе и эстетически, как преизбыток, явленной) полноты бытия в творении (και ειδεν ο θεος οτι καλον... — «И увидел Бог, что это хорошо» — Быт 1, 10)44.
Внутри этой формально-исчерпывающей идентичности как раз и разверзается бесконечно глубокая область человеческого произволения (προαιρεσις), направленного то к образу благодарно (евхаристически) — эсхатологичного восприятия бытия как ничем не заслуженного дара, когда красота сущего сказуется в самой его бытийственной оси-янности Творцом45, то к образу эстетизирующе-своевольного изъятия сущего из его онтологического «жилища» (ср. Иуд 6) — в покорность тщеславной суете сынов человеческих46.
Как эта именно направленность к тому или другому способу в и дения и переживания бытия и совершается реальность эстетического , религиозный смысл которой не предлежит нам в самих по себе готовых формах — как данность, но открывается в духе творческого свершения как непредсказуемая, а иногда и непостижимая возможность — видеть и воспринимать жизнь в свете божественного: «вот — хорошо весьма».
Тогда он взглянул благодарно В окно, за которым стена Была точно искрой пожарной Из города озарена.
Там в зареве рдела застава, И, в отсвете города, клен Отвешивал веткой корявой Больному прощальный поклон. «О Господи, как совершенны Дела Твои, — думал больной, — Постели, и люди, и стены, Ночь смерти и город ночной…»
«Постели, и люди, и стены…» — так невыразительно-случайные в своей рядоположен-ности (а значит, заурядности ) самой по себе, — раскрываются, бытийствуют, как «совершенные дела Божии», в предсмертно-эсхатологически озаренном благодарностью сознании человека. Человеческое произволение, в благодарно-эсхатологической раскрытости своему Творцу, оказывается непостижимо-способным соответствовать (уподобляться) Его в и дению творения, как того, что достойно есть («И вот, хорошо весьма» — Быт 1, 31).
Ср. Также, в контексте нашей темы, характеристику одной из картин Я. Ван Эйка, сделанную С. С. Аверинцевым: «Простые вещи, изображенные Я. Ван Эйком…— деревянные туфли на полу и яблоки на столе, зажженная свеча в люстре и все отразившее зеркало на стене — это отнюдь не какие-то особенно красивые предметы, создающие „благород-ную“ декорацию „возвышенного“ существования, как на итальянских портретах 16 века; но это и не обстановка жанровой сцены, не предмет для натюрморта. Эти вещи говорят не о быте, но о бытии; поэтому они не „возвышенны“ и не „низменны“ — они просто суть» (Древне-русское искусство. Зарубежные связи. М., 1975. С. 395).
-
46 Между прочим, неслучайно, что в границах ветхозаветной реальности προαιρεσις — всего лишь «томление духа» (Еккл 1, 14).