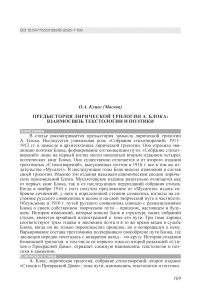Предыстория лирической трилогии А. Блока: взаимосвязь текстологии и поэтики
Автор: Клинг О.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается предыстория замысла лирической трилогии А. Блока. Исследуется уникальная роль «Собрания стихотворений» 1911- 1912 гг. в замысле и архитектонике лирической трилогии. Оно отразило эволюцию поэтики Блока, формирование его концепции пути. «Собрание стихотворений» лишь на первый взгляд могло показаться вторым изданием четырех поэтических книг Блока. Оно существенно отличается и от второго издания трехтомных «Стихотворений», выпущенных поэтом в 1916 г. все в том же издательстве «Мусагет». В последующие годы Блок вносил изменения в состав своей трилогии. Именно эти издания называли каноническим сводом лирических произведений Блока. Мусагетовское издание разительно отличается как от первых книг Блока, так и от последующих переизданий собрания стихов. Когда в ноябре 1910 г. поэт получил предложение от «Мусагета» издать собрание сочинений, у него в определенной степени сложились взгляды на состояние русского символизма в целом и на свой творческий путь в частности. Обсуждение в 1910 г. путей русского символизма совпало с размышлениями Блока о своем собственном творческом пути - прошлом, настоящем и будущем. История изменений, которые вносил Блок в структуру своих собраний стихов, является ярчайшей иллюстрацией к теме его пути. Три тома лирики соответствуют трем этапам в эволюции поэта и в то же время вехам в судьбе Блока, когда он не только переосмыслял прошлое, но и возвращался к нему. Варьирование состава трехтомника подчеркивало своеобразие пути Блока, где эволюция нередко сочеталась с возвратом назад - по кругу. История создания блоковской трилогии, в том числе ее первого тома со второй редакцией «Стихов о Прекрасной Даме», отражает сложную взаимосвязь текстологии и поэтики в движении
А. блок, лирическая трилогия, собрание стихотворений, второе издание «стихов о прекрасной даме», тема пути, взаимосвязь текстологии и поэтики
Короткий адрес: https://sciup.org/149147766
IDR: 149147766 | DOI: 10.54770/20729316-2025-1-109
Текст научной статьи Предыстория лирической трилогии А. Блока: взаимосвязь текстологии и поэтики
В статье рассматривается предыстория замысла лирической трилогии А. Блока. Исследуется уникальная роль «Собрания стихотворений» 1911– 1912 гг. в замысле и архитектонике лирической трилогии. Оно отразило эволюцию поэтики Блока, формирование его концепции пути. «Собрание стихотворений» лишь на первый взгляд могло показаться вторым изданием четырех поэтических книг Блока. Оно существенно отличается и от второго издания трехтомных «Стихотворений», выпущенных поэтом в 1916 г. все в том же издательстве «Мусагет». В последующие годы Блок вносил изменения в состав своей трилогии. Именно эти издания называли каноническим сводом лирических произведений Блока. Мусагетовское издание разительно отличается как от первых книг Блока, так и от последующих переизданий собрания стихов. Когда в ноябре 1910 г. поэт получил предложение от «Мусагета» издать собрание сочинений, у него в определенной степени сложились взгляды на состояние русского символизма в целом и на свой творческий путь в частности. Обсуждение в 1910 г. путей русского символизма совпало с размышлениями Блока о своем собственном творческом пути – прошлом, настоящем и будущем. История изменений, которые вносил Блок в структуру своих собраний стихов, является ярчайшей иллюстрацией к теме его пути. Три тома лирики соответствуют трем этапам в эволюции поэта и в то же время вехам в судьбе Блока, когда он не только переосмыслял прошлое, но и возвращался к нему. Варьирование состава трехтомника подчеркивало своеобразие пути Блока, где эволюция нередко сочеталась с возвратом назад – по кругу. История создания блоковской трилогии, в том числе ее первого тома со второй редакцией «Стихов о Прекрасной Даме», отражает сложную взаимосвязь текстологии и поэтики в движении.
ючевые слова
А. Блок; лирическая трилогия; собрание стихотворений; второе издание «Стихов о Прекрасной Даме»; тема пути; взаимосвязь текстологии и поэтики.
O.A. Kling (Moscow)
BACKGROUND TO A. BLOK’S LYRICAL TRILOGY: THE CONNECTION BETWEEN TEXTOLOGY AND POETICS bstract
A
The article deals with the background of the idea of Alexander Blok’s lyrical trilogy. The unique role of the 1911–1912 Collected Poems in the idea and architectonics of the lyrical trilogy is analyzed. This reflected the evolution of Blok’s poetics and the formation of his concept of the creative path. The Collected Poems could seem to be the second edition of Alexander Blok’s four poetry books at first glance. It also differs significantly from the second edition of the three-volume Poems published by Blok in 1916 by the same “Musaget” publishing house. In subsequent years, Blok made changes to the composition of his trilogy. These editions were called the canonical collection of Blok’s lyrical works. The Musaget edition is strikingly different from both Blok’s first books and subsequent reprints of the collected poems. When in November 1910 Blok received the offer from Musaget to publish the collection of his works, he had already formed his views on the state of Russian Symbolism in general and on his creative path in particular. The discussion of the paths of Russian Symbolism in 1910 coincided with Blok’s reflections on his own creative path in the past, in the present and in the future. The Blok’s changes in the structure of his Collected Poems are the most striking illustration of the theme of his path. The three volumes of lyrics correspond to three stages in Blok’s evolution and at the same time to milestones in Blok’s fate, when the poet not only rethought the past, but also returned to it. The variation in the composition of the three-volume work emphasized the uniqueness of Blok’s path, where evolution was often combined with a return back – in a circle. The story of the creation of Blok’s trilogy, including its first volume with the second edition of “Verses on a Beautiful Lady” reflects the complex connection between textual criticism and poetics in motion.
ey words
A. Blok; lyrical trilogy; collection of poems; second edition of “Verses on a Beautiful Lady”; theme of the path; connection between textual criticism and poetics.
В 1911 г. в московском символистском издательстве Э.К. Метнера «Муса-гет», душой которого еще был и Андрей Белый, вышел первый том «Собрания стихотворений» Александра Блока. Из каталога «Мусагета» в конце тома читатели могли узнать, что речь идет о Собрании стихотворений в трех книгах, две из которых готовились к печати (в 1912 г. они увидели свет). Так началась история, как назвал ее сам поэт в предисловии к собранию стихотворений, трилогии. Эта история обстоятельно прослежена учеными [Кузнецова 1997, 385–393; Кузнецова 2005, 249–263].
Мы же остановимся лишь на тех ее аспектах, которые необходимы для понимания уникальной роли «Собрания стихотворений» 1911–1912 гг. в замысле и архитектонике лирической трилогии. Это отразило эволюцию поэтики Блока, формирование его концепции пути.
В чем же уникальность мусагетовского трехтомника 1911–1912 гг.?
«Собрание стихотворений» лишь на первый взгляд могло показаться вторым изданием четырех поэтических книг Александра Блока, вышедших с 1905 г. (дебютный сборник Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (М., изд-во
«Гриф») на самом деле вышел в свет в конце 1904 г., но по издательской практике тех лет, возобновленной в наши дни, датирован 1905 г. – чтобы книга «не устарела» и лучше продавалась) по 1908 г. Это «Стихи о Прекрасной Даме» (М., «Гриф», 1904), «Нечаянная Радость» (М., «Скорпион», 1907), «Снежная Маска» (СПб., «Оры», 1907), «Земля в снегу» (М., «Золотое Руно», 1908). Хотя первые три книги были распроданы (свидетельство популярности поэта), и это позволяло, как не раз бывало в русской литературе до и после Блока, прибегнуть к переизданию сборников, поэт не просто сильно, а радикально переработал структуру своих прежних книг. В первую очередь это касалось первой книги трехтомника, о чем речь пойдет ниже.
Но «Собрание стихотворений» 1911–1912 гг. существенно отличается и от второго издания трехтомных «Стихотворений», выпущенных Блоком в 1916 г. все в том же издательстве «Мусагет». Дело не только в том, что в новое собрание стихов было включено написанное после 1910 г., в том числе книги «Ночные Часы» (М., «Мусагет», 1911), «Стихи о России» (Пг., 1915). Как отмечал В.А. Сапогов, «трехтомник “Стихотворений” по сравнению с предыдущим изданием 1911–1912 годов был переработан кардинальнейшим образом <…>. С особой строгостью Блок подверг сокращениям 1-ый том. Он исключил из него 89 стихотворений, входивших в издание 1911 года» [Сапогов 1995, 431]. Второе мусагетовское издание существенно отличается от первого и в большей степени, нежели предыдущее, приближается к так называемому «каноническому» трехтомнику.
В последующие годы Блок вносил изменения в состав своей трилогии. В 1918 г. вышло новое издание трехтомника «Стихотворения» (СПб., «Земля»). В 1922 г. увидело свет еще одно – так называемое «алконостовское» собрание «Стихотворений» в трех книгах (Пб., изд-во «Алконост»; третий том датирован 1921 г.). Именно эти «последние издания, осуществленные по плану автора (“Книга первая” в 5-м издании 1922 г.; “Книга вторая” в 4-м издании 1918 г.; “Книга третья” в 3-м издании 1921 г.)», В.Н. Орлов называл «каноническим сводом лирических произведений Блока» [Орлов 1960, 567]. Они были положены в основу первых трех томов лирики в блоковском «Собрании сочинений в восьми томах» (М.; Л., 1960–1963).
Сходный принцип (с учетом новейших достижений блоковедения) положен в основу академического Полного собрания сочинений и писем [Блок 1997, 7].
Имея в виду собрание стихотворений 1911–1912 гг., В.Н. Орлов писал по этому поводу: «<…> существенно меняя от издания к изданию состав своего трехтомника, А. Блок не отказывался от положенных в его основу конструктивных принципов » [Орлов 1960, 566].
Сходная точка зрения у исследователя новейшего времени О.А. Кузнецовой: «<…> в 1911–1912 гг. сложился канонический тип издания лирики Блока – трилогия» [Кузнецова 1997, 388].
Непреходящее значение первого мусагетовского издания заключено в том, что в нем впервые получила воплощение блоковская идея лирической трилогии, «романа в стихах». Но в то же время «Собрание стихотворений» 1911–1912 гг. отражает состояние Блока-художника и его поэтическую са-морефлексию именно этого, конкретного отрезка времени. Выше уже отмечалось: мусагетовское издание разительно отличается как от первых книг Блока, так и от последующих переизданий собрания стихов.
Это констатирует и О.А. Кузнецова: «В дальнейшем осуществлялось перераспределение стихотворений по томам, менялась структура отдельных книг, а также хронологические рамки как поэтической трилогии в целом, так и отдельных ее частей. <…> Несколько раз Блок предпринимал попытки изменить тип издания, но ни одна из них не была осуществлена » [Кузнецова 1997, 388]. Правда, желая подчеркнуть непреходящее значение в судьбе Блока первого мусагетовского издания, исследовательница называет именно его «каноническим».
З.Г. Минц «каноническим» считала «Собрание сочинений» 1922 г., в том числе по отношению к первому тому [Минц 1997, 402]. Исследовательница приводит точку зрения П.Н. Медведева, который «каноническим» считал четвертое издание первого тома (Пб., «Земля», 1918) [Минц 1997, 407].
Тем не менее, при некоторой разнице в подходе к проблеме «канонического» издания, бесспорно одно: мусагетовское «Собрание стихотворений» в трех томах 1911–1912 гг. стало важным этапом в эволюции поэтического самоопределения Блока.
Можно определить точку отсчета этого самоопределения. В ноябре 1910 г. Блок получил предложение от «Мусагета» издать собрание сочинений. К тому времени в определенной степени сложились взгляды Блока на состояние русского символизма в целом и на свой творческий путь в частности. Незадолго до этого с доклада Вяч. Иванова «Заветы символизма» началась дискуссия о так называемом «конце символизма». С дистанции времени очевидно: на самом деле до конца символизма было еще далеко (взять хотя бы Андрея Белого, который до конца жизни считал себя символистом, самого Блока). Почти через два десятилетия существования русского символизма речь шла о его неминуемой трансформации, о рождении в нем новых школ [см.: Клинг 2010]. Это было очевидно не только для «младосимволистов» (Вяч. Иванова, Блока и Белого), но и для старших символистов, к примеру, В. Брюсова, который поначалу с большим воодушевлением отнесся к спорам о судьбе символизма, витавшим в воздухе и выраженным в ивановском докладе. Пути русского символизма – одна из главных тем в критике 1910-х гг. Помимо Вяч. Иванова в дискуссии приняли участие Д.С. Мережковский, С.М. Городецкий, А. Белый, наконец, Блок, другие символисты, критики реалистического направления.
Это обсуждение путей русского символизма, путей развития русской литературы совпало с размышлениями Блока о своем собственном творческом пути – прошлом, настоящем и будущем. Еще в статье 1909 г. «Душа писателя», впервые опубликованной в газете «Слово», Блок писал: «Первым и главным признаком того, что данный писатель не есть величина случайная и временная, – является чувство пути …» [Блок 2010, 102].
Тема пути – одна из центральных в этапной для биографии статье Блока 1910 г. «О современном состоянии русского символизма». О.А. Кузнецова полагает, что впервые эволюцию русского символизма и путь самого Блока в виде триады (теза – антитеза – синтез) представил поэт и один из теоретиков символизма Вяч. Иванов в упомянутом выше докладе, прочитанном 26 марта 1910 г. в Петербурге. Его основные положения были развиты в статье «Заветы символизма», опубликованной в том же номере журнала «Аполлон» (1910, № 8), где впервые увидела свет и блоковская статья «О современном состоянии русского символизма» [Кузнецова 1997, 385].
Статья Блока первоначально тоже была докладом, точнее содокладом к выступлению Вяч. Иванова. Блок назвал свою речь «ответом на доклад» Ива- нова. Выражая свое согласие с основными идеями Иванова, Блок отмечал: «Моя цель – конкретизировать то, что говорит В. Иванов, раскрыть его терминологию, <...> к моим же словам прошу отнестись как к словам, играющим служебную роль, как к Бедекеру…» [Блок 2010, 123].
Поначалу Блок колебался, печатать ли эту статью, и некоторое время считал ее неудачной, но впоследствии называл ее лучшим из того, что написал в этом жанре. В 1921 г., когда Блок многое уже в своем прошлом пересмотрел, в том числе отношение к Октябрю и к своей поэме «Двенадцать», он без изменений отдельной брошюрой переиздал свою старую, но важнейшую для понимания эволюции поэта статью.
Тогда же, в 1910 г., Блок писал в начале статьи: «<...> мы, русские символисты, прошли известную часть пути и стоим перед новыми задачами…» [Блок 2010, 123]. Блок обозначает вехи на своем (и общесимволистском) пути, выделяя два этапа – тезы и антитезы. Третий – синтез – обозначается в конце статьи словами «подвиг мужественности», « послушание » (Блок 2010, 123].
Идею пути у Блока разрабатывал один из ведущих блоковедов ХХ в. Д.Е. Максимов. Он зафиксировал « миф о пути Блока , мыслимом как правда о поэте и одном из самых заметных знаков его своеобразия, соответствующих его сущности» [Максимов 1981, 16].
Это максимовское положение соотносится с цветаевским определением амбивалентной сути пути Блока в статье «Поэты с историей и поэты без истории» (1934). «Все поэты делятся на поэтов с развитием и поэтов без развития. На поэтов с историей и поэтов без истории» [Цветаева 1994, 398], – писала М. Цветаева. Поэтами с историей она назвала в первую очередь Гёте и Блока. Цветаева одной из первых выдвинула именно в связи с Блоком концепцию пути : она включала в себя не только «развитие», эволюцию и изменчивость лирики на разных отрезках жизненного пути поэта, но и то неизменное, сугубо «блоковское», с чем пришел поэт в искусство. Эту двойственность, амбивалентность следует учитывать в разговоре о цветаевском понимании пути Блока. Цветаева подчеркивала, с одной стороны, эволюцию Блока («от Блока Двенадцати все еще требуют Незнакомку !»), а с другой, – не меняющуюся в своей основе суть поэта. Потому она считала: «развитие» – слово, противоречащее сущности и судьбе Блока. Цветаева полагала, что «развитие предполагает гармонию». И задаваясь вопросом: «Может ли быть развитие катастрофическим? И может ли быть гармония там, где налицо полный разрыв души?», давала ответ: «…Блок на протяжении всего своего поэтического пути не развивался (здесь и ниже курсив мой. – О.К .), а разрывался » [Цветаева 1994, 409]. Выдвинув концепцию пути Блока, Цветаева конкретизирует ее: «…этот путь – лишь бегство по кругу от самого себя» [Цветаева 1994, 409].
История изменений, которые вносил Блок в структуру своих Собраний стихов, является ярчайшей иллюстрацией к этому тезису Цветаевой. Нередко и блоковская текстология, при всей ее радикальности, была, говоря словами Цветаевой, «бегством по кругу от самого себя» [Цветаева 1994, 409].
В 1910 г., когда в контексте полемики о судьбах русского символизма, во многом скрытой от взора «чужих», родилось предложение Блоку со стороны Э. Метнера и Белого, занявших свою позицию в этой дискуссии, выпустить Собрание стихотворений, Блок ретроспективно по-новому прочерчивает свой творческий путь.
Для любого поэта издание Собрания сочинений – подведение итогов своего творческого пути. В начале ХХ в. было модно выпускать Собрания сочи- нений больших писателей. Культивировали эту традицию и символисты. Так, образовавшееся в 1889 г. символистское издательство «Скорпион», душой которого был В. Брюсов, выпустило в начале 1900-х гг. несколько Собраний сочинений: не только посмертное – Ивана Коневского, но и поэтов здравствующих – Д. Мережковского, К. Бальмонта, Ф. Сологуба, позднее самого Брюсова (трехтомник «Пути и перепутья. Собрание стихов». М., 1908–1909). Кульминацией в этом отношении стало прижизненное Полное собрание сочинений и переводов Брюсова в издательстве «Сирин» (СПб., 1913–1914), которое вызвало целый ряд насмешек современников (к примеру, Бальмонта, который злословил: Брюсов думает, что он классик и уже умер).
Брюсов как будто забыл (скорее всего, так и было) свои собственные слова, обращенные в 1903 г. в письме к Н.М. Минскому. Объясняя причину своего отказа выпустить Собрание стихов одного из первых русских символистов (что было трудно сделать без обиды со стороны Минского: «Скорпион» анонсировал собрание стихов Мережковского), Брюсов писал: «Книга Мережковского иное дело. Он подводит итог своей, уже окончившейся деятельности как поэта. Вам сделать это невозможно» [Литературное наследство 1976, 665].
Что касается Блока, то в случае с его Собранием стихов совпали внутренние и внешние предпосылки к его появлению. В 1910 г. он подводит итог своей поэтической деятельности – и на этом фоне органичным, не противоречащим внутренней логике блоковского литературного развития явилось предложение «Мусагета».
Блока волнует, каким поэтом он предстанет перед читателями своего Собрания стихотворений. Косвенно его размышления о принципах издания Собрания сочинений проявились в статьях и рецензиях того времени. Еще в 1909 г. он писал о Бальмонте: «Плохую услугу оказывает ему “Скорпион”, издавая его “полное собрание”». Блок советует читателям «содействовать истреблению последних книг Бальмонта…» [Блок 1960–1963, V, 374, 375]. Кто знает, может быть, тогда поэт пришел к убеждению, что надо крайне строго, вдумчиво отбирать стихи для переиздания. Сам он так и поступит, включив в первый том мусагетовского Собрания 300 из 687 созданных в 1898–1904 гг. лирических произведений. В декабре 1910 г. (уже после предложения «Муса-гета») Блок отмечал правоту Д.С. Мережковского, который отобрал для своего нового «Собрания стихов (1883–1910)» «всего 49 лирических пиесок и 14 “легенд и поэм”. Это – за двадцать семь лет» [Блок 1960–1963, V, 657].
В записной книжке Блока за июль–декабрь 1910 г. не случайно соседствуют две записи. Первая от 1 ноября: «Послать статью о символизме. – Послал 9 ноября» [Блок 1965, 173]. Во второй, датированной «ноябрем-декабрем», план первого тома Собрания стихов. Так совпали идеи статьи «О современном состоянии русского символизма», где Блок выделил в своей лирике три этапа, и рождение трехтомной структуры Собрания стихов.
Однако рождение идеи трехтомника нельзя целиком свести ни к упомянутой статье Блока, ни тем более к статье Вяч. Иванова «Заветы символизма».
Три – сакральная цифра не только в христианской традиции. Она лежит в основе классического понимания гармонии в архитектонике произведений искусства (если не считать симметричной или зеркальной композиций).
Трехчастная композиция часто встречалась в мировой и русской литературе. Это не было открытием Блока. Ближайший предшественник – Мережковский со своей знаменитой трилогией «Христос и Антихрист», из которой во многом вышла вся литература, и не только проза ХХ в.
Не мог пройти Блок и мимо опыта Брюсова, который скорпионовское Cобрание своих стихов «Пути и перепутья» разделил на три тома. К тому времени Брюсов выпустил шесть поэтических книг (сборник «Juvenilia» увидел свет только в полном Cобрании сочинений и переводов поэта), но он объединил их в три тома, именно таким образом обозначив свой творческий путь . Замечу, что и идею пути Блок мог позаимствовать тоже у Брюсова, который дважды подчеркнул в названии трехтомника эту тему пути – « Пути и перепутья ». Блок хорошо знал поэзию Брюсова. Об этом свидетельствуют две его рецензии (каждая в двух редакциях) на «Urbi et Orbi» и «Stephanos». Брюсовское понимание «книги стихов» не как «случайного сборника разнородных стихотворений, а именно книги », которое открывало в качестве предисловия «Urbi et Orbi», Блок не только процитировал в своей рецензии на этот сборник [Блок 2010, 141], но и положил в основу собственного Cобрания стихотворений.
Можно найти мистическую связь идеи троичности у Блока с поэмой «Три свидания» Вл. Соловьева. В соловьевской поэме, оказавшей исключительное влияние на Блока, роль мифологического и семантического ореолов цифры 3 подчеркивается многократно (и не только в названии): во-первых, в трехчастной композиции, во-вторых, на уровне хронотопа – действие поэмы «происходит» в трех местах (Москве – Лондоне – Египте) и в три временных отрезка (1862 – 1875 – 1876 гг.), наконец, и на лексическом уровне («Не трижды (курсив мой. – О.К. ) ль ты далась живому взгляду...»). Блок придавал существенное значение цифре 3 и мистике вообще. Так, в автобиографии 1915 г. после фрагмента о трех поездках в Бад-Наугейм он писал о несостоявшейся четвертой: «<...> но в личную и низшую мистику моих поездок в Bad Nauheim вмешалась общая и высшая мистика войны» [Блок 1960–1963, VII, 16].
Важно еще одно обстоятельство. Хотя к началу работы Блока над составлением собрания стихотворений на счету поэта было, как уже указывалось, четыре книги («Стихи о Прекрасной Даме», 1905; «Нечаянная Радость», 1907; «Снежная Маска», 1907; «Земля в снегу», 1908), на самом деле – в структурном отношении – их было три . «Снежную маску» Блок включил в качестве финального раздела в сборник «Земля в снегу». Как писала О.А. Кузнецова, «заглавие сборника «Земля в снегу» восходит к символике «Снежной Маски», что было очевидно для близкого окружения поэта. Так, С.М. Городецкий заметил в позднейших мемуарах, что «Снежная Маска» мгновенно выросла в «Землю в снегу» [см.: Кузнецова 1997, 277]. «Ночные часы» к моменту выхода первого тома «Собрания стихотворений» были анонсированы в каталоге «Му-сагета» как новый сборник стихов с пометой: «готовится».
В чрезвычайно коротком предисловии ко всему «Собранию стихотворений», помеченном 9 января 1911 г., Блок писал: «Тем, кто сочувствует моей поэзии, не покажется лишним включение в эту и следующие книги полудетских или слабых по форме стихотворений; многие из них, взятые отдельно, не имеют цены; но каждое стихотворение необходимо для образования главы ; из нескольких глав составляется книга ; каждая книга есть часть трилогии ; всю трилогию я могу назвать “романом в стихах”: она посвящена одному кругу чувств и мыслей, которому я был предан в течение первых двенадцати лет сознательной жизни» [Блок 1960–1963, I, 559].
Итак, слово найдено: по аналогии с пушкинским «Евгением Онегиным» Блок называет три книги своей лирики «романом в стихах». В этом Блок тоже шел за Брюсовым, который в предисловии к стихотворному сборнику 1903 г. «Urbi et Orbi» помимо того, что уже было процитировано выше, писал: «Книга стихов должна быть <…> замкнутым целым, объединенным единой мыслью. Как роман (курсив мой. – О.К.), как трактат, книга стихов раскрывает свое содержание последовательно от первой страницы к последней» [Брюсов 1973, 604–605].
Три тома лирики соответствуют трем этапам в эволюции Блока и в то же время вехам в судьбе Блока, когда поэт не только переосмыслял прошлое, но и возвращался к нему. Варьирование состава трехтомника подчеркивало своеобразие пути Блока, где эволюция нередко сочеталась с возвратом назад – по кругу. В одном из писем 1916 г. Блок писал: «Переиздание моих книг побуждает меня всегда проверять весь путь, потому я семь раз отмериваю, чтобы раз отрезать… Выбираю и распределяю все так, чтобы как можно яснее (насколько в данное время жизни понимаю) было, чего хотел, чего не достиг, как падал, где удалось удержаться» [Блок 1960–1963, VIII, 456–457].
Существенно, однако, замечание З.Г. Минц о том, что «“трилогия лирики” не тождественна реальной эволюции Блока – она отражает лишь блоковскую авторефлексию, создает художественный образ эволюции» [Минц 1997, 402]. Д.Е. Максимов называл это, как указывалось выше, «мифом о пути Блока», мифологемой, подчеркивая роль автобиографического начала в лирике Блока. А в год смерти поэта (1921) Ю.Н. Тынянов в статье «Блок» писал: «Блок – самая большая лирическая тема Блока» [Тынянов 1977, 118]. В этой амбивалентности – один из ключей к изучению поэта. История создания блоковской трилогии, в том числе ее первого тома со второй редакцией «Стихов о Прекрасной Даме», отражает сложную взаимосвязь текстологии и поэтики в движении, исследование которой будет продолжено.