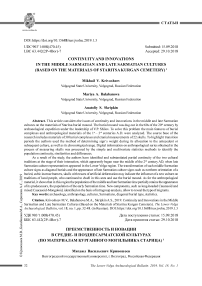Преемственность и новации в средне- и позднесарматской культурах (по материалам курганного могильника Старица)
Автор: Кривошеев Михаил Васильевич, Балабанова Мария Афанасьевна, Скрипкин Анатолий Степанович
Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.18, 2019 года.
Бесплатный доступ
В данной статье на основе материалов могильника Старица рассмотрены проблемы преемственности и новаций в сарматских культурах среднего и позднего периодов. Могильник раскапывался в 60-е годы XX столетия археологической экспедицией под руководством В.П. Шилова. Для решения поставленной задачи были проанализированы характерные особенности погребальных комплексов и антропологических материалов I-III вв. н.э. Источниковой базой исследования явились материалы по 30 погребальным комплексам и краниологические измерения по 22 черепам. Для выделения переходных периодов был использован метод определения веса признака при отнесении его к предшествующей или последующей культуре, а также его хронологический диапазон. Для выявления преемственности населения, черт сходства и различий цифровая информация по антропологическим сериям, полученная в процессе измерения черепов, обрабатывалась методами простой и многомерной статистики. В результате исследования была выявлена и обоснована частичная преемственность двух культурных традиций на этапе их взаимодействия, которое началось, видимо, около середины II в...
Археология, антропология, культуры, сарматы, диагональныйтип погребения, статистика
Короткий адрес: https://sciup.org/149130844
IDR: 149130844 | УДК: 903’1:008(470.45) | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2019.1.3
Текст научной статьи Преемственность и новации в средне- и позднесарматской культурах (по материалам курганного могильника Старица)
СТАТЬИ
DOI:
Цитирование. Кривошеев М. В., Балабанова М. А., Скрипкин А. С., 2019. Преемственность и новации в средне- и позднесарматской культурах (по материалам курганного могильника Старица) // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 1. С. 32–48. DOI:
Введение. Основу культурного наследия любого народа образуют традиции, которые являются формой преемственности и взаимосвязи культурно-исторических эпох. В самобытной культуре традиции проявляются во всех сферах жизни. Разновидностью традиций является обычай, который выступает как ритуал или обряд при установленном порядке действий. При изучении погребальных памятников исследователи пытаются реконструировать обряды, совершенные в момент и после смерти (предпохоронные, похоронные и постпохоронные обряды) [Ге-непп, 1999, с. 134–152]. Кроме того, в археологической культуре преемственность и взаимосвязи культурно-хронологических эпох можно проследить, изучая вещевой комплекс погребений, который выступает как материальное наследие изучаемых народов.
Проблема новаций чаще всего связана с межкультурными взаимодействиями. Для сарматских культур первых веков нашей эры этот вид взаимодействия был по типу аккультурации, результаты которой видны в приобретении и усвоении новых культурных элементов, образовании культурного синтеза на стадии становления позднесарматской культуры. Для развитой позднесарматской культуры, скорее всего, характерна уже культурная интеграция, которая представляет собой состояние культуры как единого целого, а составляющие его разнородные элементы функционируют согласованно и гармонично [Кривошеев, Скрипкин, 2011]. В данной статье делается попытка выявления традиций и новаций в сарматских культурах первых веков нашей эры и в антропологическом типе на материалах Старицкого могильника 2. Для этого была выработана следующая процедура. На первом этапе анализировались археологические комплексы среднесарматского и позднесарматского времени на предмет выявления призна- ков преемственности и новаций в погребальном обряде и в вещевом материале. На втором этапе изучались краниологические серии с определением общего типа населения хронологических групп, их внутригрупповой и хронологической изменчивости.
Анализ археологического материала. Погребения среднесарматского времени. К среднесарматскому времени с определенной долей вероятности можно отнести следующие погребения могильника: кург. 9, погр. 1; кург. 15, погр. 1; кург. 25, погр. 9б; кург. 32, погр. 1; кург. 38, погр. 3, 4; кург. 42, погр. 4. Сложность датировки этих комплексов в ряде случаев вызвана, с одной стороны, отсутствием убедительно датируемых этим временем артефактов, с другой – сохранением ряда типичных элементов среднесарматской культуры в позднесарматское время, что характерно для этого района междуречья Волги и Дона.
Ряд комплексов (кург. 9, погр. 1; кург. 15, погр. 1; кург. 25, погр. 9б) может быть отнесен к среднесарматскому времени на основании нахождения в нем глиняных сосудов, обнаруживающих аналогии в других погребениях этого времени (рис. 1). Кувшины типа, обнаруженного в погр. 9б кург. 25, орнаментированного косыми линиями по тулову (рис. 1, 5 ), известны в погребениях на территории Волго-Донского региона и Северного Кавказа во II–I вв. до н.э., хотя остальной набор керамических изделий из этого погребения наиболее характерен для среднесарматского времени.
В погребении кург. 32 был найден алебастровый сосудик, с погребенными в кург. 38 находились бусы в виде скарабеев и кан-фар, в погребении из кург. 42 обнаружен кинжал с кольцевым навершием – все эти находки наиболее типичны для среднесарматской культуры.
Общая характеристика погребений среднесарматской культуры выглядит следующим образом: из семи погребений шесть оказались основными в курганах; из выявленных форм ям две являлись прямоугольно-удлиненными, две – подквадратными с диагональным положением костяков, одна – подбойной ямой; погребенные были ориентированы преимущественно в южный сектор; из сопровождающих костей животных в четырех случаях были обнаружены передние ноги овцы с лопатками.
Обращает на себя внимание большой процент детских погребений: в трех случаях отдельные захоронения и в одном женское погребение сопровождали два детских костяка. Из вещевого материала преобладает глиняная посуда, среди которой выделяются чернолощеные сосуды, в отдельных случаях обнаружена античная керамика. Дважды найдены глиняные лепные курильницы. В детских и женских погребениях часто встречались разные типы бус. Предметы вооружения обнаружены только в одном мужском погребении (кург. 42, погр. 4) – это кинжал и железные трехлопастные черешковые наконечники стрел.
Погребения позднесарматского времени. Наиболее интенсивно могильник функционировал в позднесарматское время, к которому относится почти треть курганов [Кривошеев, 2005]. Большинство комплексов позднесарматского времени Старицкого могильника носят синкретический характер и этим представляют особый интерес. Погребальный обряд их достаточно разнообразен. Ряд комплексов можно отнести к позднесарматскому времени лишь по вещевому материалу.
Из 23 погребений только 2 впущены в курганы более раннего времени (кург. 54, 58). Среди погребальных конструкций господствуют широкие прямоугольные ямы (11) и подбои (8). Узких прямоугольных ям всего три и одна яма с заплечиками.
В исследуемых комплексах наблюдается незначительное преобладание южной ориентировки погребенных (11) над северной (9). Причем и та, и другая ориентировка присутствуют во всех типах ям. Однако северная ориентировка устойчиво коррелируется с подбойными ямами (5 случаев), а южная – с широкими прямоугольными ямами (7).
Среди погребений в широких прямоугольных ямах следует отметить три комплекса с диагональным положением и южной ориентировкой костяка (кург. 28, 55, 75). Данные элементы погребального обряда принято считать одной из характерных черт среднесарматской культуры. Однако сопутствующий инвентарь позволяет датировать их позднесарматским временем.
Наряду с диагональным положением, в широких прямоугольных ямах погребенных укладывали и по продольной оси ямы (кург. 54,
59, 64). В двух случаях из трех погребенные ориентированы в южный сектор, в одном – в северный.
В единственной яме с заплечиками (кург. 69) был погребен мужчина, ориентированный головой на север. Череп погребенного деформирован. Сопутствующий инвентарь характерен для позднесарматской культуры. Ямы с заплечиками – не очень частое явление в погребальном обряде сарматов, однако их относительно больше в среднесарматское время. В позднесарматскую эпоху эта конструкция встречается крайне редко.
В восьми случаях у погребенных отмечена искусственная деформация головы (кург. 11; кург. 26, погр. 2; 29; 40; 59; 61; 69; 70). Устойчивой связи между типами ям, ориентировкой погребенных и деформацией черепов не наблюдается. Искусственная деформация встречается в комплексах как с южной, так и северной ориентировкой костяков, в широких прямоугольных ямах и в яме с заплечиками. Но чаще всего она наблюдается в подбойных могилах.
В десяти мужских погребениях встречены мечи и кинжалы без металлического на-вершия и перекрестия. Все они относятся к известным типам клинкового вооружения, характерного для позднесарматского времени. В женских погребениях вооружение отсутствует. Следует обратить внимание на практически полное отсутствие в погребениях стрел. В трех комплексах обнаружено по одной стреле (кург. 54; 69; 71). Лишь в одном погребении в широкой прямоугольной яме найдены, наряду с длинным мечом без навершия и перекрестия, 10 железных черешковых стрел (кург. 75). По сравнению с предшествующей среднесарматской эпохой, когда в погребениях часто находились большие наборы стрел, в позднесарматское время в ВолгоДонском междуречье единичные экземпляры лишь обозначали присутствие стрел в могиле. В представленных комплексах были найдены также такие предметы вооружения, как копья, колчаны и накладки на лук (кург. 69).
Необходимо отметить биметаллический нож из кург. 29 с бронзовой двухстворчатой рукояткой, на каждой из створок которой имеются по два сквозных прямоугольных отверстия и расширяющаяся шляпка сверху.
Ножи, подобные старицкому, довольно хорошо известны в памятниках позднесарматского времени второй половины II–III вв. н.э. на территории от Средней Азии до Крымского полуострова.
В погребениях позднесарматского времени гончарная керамика представлена в основном кувшинами и мисками северокавказского и нижнедонского производства, для лепной посуды характерны в большей степени горшки.
Среди другого инвентаря можно отметить находки 7 зеркал: 5 зеркал-подвесок с боковым ушком (кург. 11; 28; 59; 61; 70) и 2 зеркала с центральной петелькой (кург. 20; 55). Оба зеркала с центральной петелькой обнаружены в широких прямоугольных могилах, одна из которых ограблена. В диагональном погребении в кург. 55 зеркало с центральной петелькой найдено с двумя сильнопрофилиро-ванными фибулами 1-го типа 2-го варианта, датируемыми второй половиной – концом II в. н.э. [Скрипкин, 1977, c. 109–113, рис. 3, 23–35 ]. Зеркала с центральной петелькой и орнаментом в виде квадрата, как на экземпляре из кургана 55, появляются во второй половине II в. н.э. [Кривошеев, 2004, с. 238–242]. С середины III в., когда этот тип становится господствующим, квадрат в орнаменте в единичных случаях встречается и во второй половине III в. н.э. [Матюхин, 1992, с. 148, рис. 2, 2 ].
Анализ материала из комплексов позднесарматского времени Старицкого могильника показывает, что проникновение элементов позднесарматской культуры в волго-донские степи началось, видимо, около середины II в. н.э. В этом плане представляет интерес погребальный комплекс из кург. 11 [Шилов, 1968, с. 310–323]. В погребении был обнаружен представительный набор вещей, включающий импортную металлическую и керамическую посуду (рис. 2). Хронологический анализ вещей из этого погребения позволил автору раскопок датировать его первой половиной II в. н.э. В.П. Шилов отнес погребение к позднесарматской культуре. Однако первая половина II в. н.э. – это время господства среднесарматской культуры. В погребальном обряде рассматриваемого комплекса преобладают традиции среднесарматского времени: южная ориентировка погребенной, положение ее прак- тически по диагонали подквадратной ямы. В то же время у погребенной отмечена искусственная деформация черепа. Среди вещей находились глиняная курильница, в верхней части имевшая очертания прямоугольника, бронзовое зеркальце-подвеска, массивный оселок длиной 43 см. Искусственная деформация головы – наиболее типичная черта населения позднесарматской культуры. Указанная курильница и зеркала-подвески – обычные находки в погребениях позднесарматской культуры. Массивные оселки – признак неординарных воинских захоронений позднесарматского времени. Не исключено, что погребение в кург. 11 было совершено около середины II в. н.э. и является одним из наиболее ранних погребений позднесарматской культуры.
Представленный материал позднесарматского времени можно объединить в несколько групп по наличию или отсутствию признаков, характерных для позднесарматской культуры в Волго-Донском регионе.
В Старицком могильнике выделяется группа погребений (кург. 13, 29, 40, 61, 63, 70) в узких прямоугольных и подбойных могилах с северной ориентировкой погребенных и значительным (57 %) количеством деформированных черепов. Эти комплексы характеризует отсутствие в них каких-либо признаков предшествующей среднесарматской эпохи как в погребальном обряде, так и в вещевом материале, который можно датировать в рамках второй половины II – первой половины III в. н.э.
Во вторую группу можно включить комплексы, погребальный обряд которых характерен для среднесарматской археологической культуры. Примером может служить погребение из кург. 55. Погребенный был уложен по диагонали широкой прямоугольной ямы и ориентирован головой к ЮЮЗ. Погребальный обряд указывает на традиции среднесарматской культуры, однако на основе погребального инвентаря можно датировать комплекс второй половиной II в. н.э. Среди вещей обнаружены керамические кувшины, миски, горшки и 4 профилированные фибулы 1-й серии 2-го варианта второй половиной II в. н.э. В кург. 75 обнаружено диагональное захоронение в широ- кой прямоугольной яме, погребенный был ориентирован головой к ЮЗ. Среди сопровождающего инвентаря, характерного для позднесарматского времени, обнаружен длинный меч без металлического навершия и перекрестия. Подобные мечи вытесняют другие типы клинкового вооружения у сарматов после середины II в. н.э.
В третью группу можно объединить погребения, сочетающие признаки двух культур в погребальном обряде: среднесарматской и позднесарматской. Здесь можно упомянуть уже описанное выше диагональное погребение с южной ориентировкой в кург. 11, где у погребенной отмечены следы деформации черепа. В кург. 59 в подквадратной яме головой к северу лежала погребенная со следами деформации черепа. В широкой прямоугольной яме кург. 64 вытянуто вдоль оси головой к ЮЮВ лежал мужчина с деформированным черепом.
Сосуществование вышеперечисленных групп захоронений в одном могильнике, их синхронность, сочетание основных признаков двух культур в комплексах может свидетельствовать о постепенном взаимопроникновении черт средне- и позднесарматской культур. Такая ситуация могла сложиться лишь при сосуществовании носителей двух традиций на одной территории при достаточно мощном влиянии пришлого населения – носителей позднесарматской культуры, что отразилось на восприятии среднесарматским населением новых черт погребальных традиций с середины II в. н.э.
Следует отметить интересный комплекс погр. 2 в кург. 26, где в центре кургана обнаружены квадратная яма и подбой в ее западной стенке. На дне квадратной ямы стояли две миски позднесарматского облика и высокий глиняный светильник. В подбое, устроенном в западной стенке квадратной ямы, обнаружен скелет погребенного, ориентированного головой к югу. Череп сильно деформирован. Среди инвентаря найден уздечный набор с серебряными псалиями и налобниками. Также в подбое обнаружен кованый котел типа «Debelt» с длиной железной рукоятью с кольцом на конце, крепившейся с помощью железного обода под венчиком [Raev, 1986, p. 24, pl. 19,1–9]. Подобные котлы с железными руч- ками встречаются в воинских комплексах позднесарматского времени в Заволжье [Скворцов, 2001, с. 243, рис. 1,3,4], на Нижнем Дону [Безуглов и др., 2009] и в Приуралье [Боталов, Гуцалов, 2000, с. 101, рис. 33,31].
Захоронение 2 в подбое в кург. 26, вероятно, можно датировать первой половиной III в. н.э. Не исключено, что подбой был сооружен после ограбления захоронения в уже существовавшей квадратной яме. Но также вполне вероятно, что захоронение в подбое и квадратная яма в качестве входной ямы устроены единовременно, что может указывать на преемственность культурных традиций: квадратные ямы являются одним из ведущих признаков погребального обряда среднесарматской культуры, подбои – самая распространенная конструкция в позднесарматской культуре. Однако традиция сочетания в одной могиле двух типов ям не нова и в среднесарматских комплексах встречаются сочетания, подобные старицкому [Скрипкин, 1987, рис. 3, 4–6 ].
Комплексный анализ погребений средне- и позднесарматского времени в Стариц-ком могильнике демонстрирует взимопроник-новение двух культурных традиций на этапе их взаимодействия, которое началось около середины II в. н.э. с появлением в Нижнем Поволжье носителей позднесарматской культуры. Постепенная трансформация таких ярких признаков среднесарматской культуры, как диагональные погребения, появление в них северной ориентировки, кубических курильниц, деформации черепов могут свидетельствовать о влиянии новой культуры на традиции местного населения, продолжавшего обитать на этой территории и использовать данный могильник.
Анализ антропологического материала. Группа среднесарматского времени немногочисленная и насчитывает всего три черепа: два мужских, которые отличаются плохой сохранностью, и один женский – хорошей. Рассмотреть общий тип этой группы весьма проблематично, в связи с этим ниже приводится их индивидуальная характеристика [Алексеев, Дебец, 1964]. Для групп позднесарматского времени со следами искусственной деформации и без деформации приводится характеристика общего типа и дается внут- ригрупповой анализ методом главных компонент [Дерябин, 1983].
Индивидуальная характеристика черепов среднесарматского времени. Кург. 9, погр. 1 (табл. 1). Череп относительно хорошей сохранности принадлежал женщине 30– 40 лет. Мозговая коробка длинная широкая и средневысокая мезокранная и хамэкранная с полной облитерацией черепных швов, кроме чешуйчатого. Рельеф на черепе сглажен. Вертикальная норма черепа сфеноидная. Основание черепа средней длины и широкое. Лобная кость широкая плоская и наклонная. Ее хорда и дуга длинные. Затылочная кость широкая, ее хорда короткая, а дуга средней длины. Теменная хорда и дуга длинные.
Лицо широкое, средневысокое и плоское на уровне глазниц с мезогнатной вертикальной профилировкой. Нос средневысокий и узкий как по абсолютным размерам, так и по относительным с антропин-ной формой нижнего края грушевидного отверстия. Орбиты мезоморфного строения и мезоконхные по указателю. Переносье среднеширокое и высокое, а носовые кости широкие и высокие с умеренным углом выступания носа.
Кург. 32, погр. 1 . Череп принадлежал мужчине, на момент смерти он был в возрасте старше 50 лет. Череп плохой сохранности: сохранилась часть мозгового отдела и часть лицевого. Из имеющегося перечня краниометрических признаков можно отметить, что основания черепа и затылочная кость были широкие. Лобная дуга длинная, а теменная и затылочная средней длины. Альвеолярная дуга узкая и средней длины, а небо короткое и средней ширины.
Кург. 42, погр. 4. Череп плохой сохранности с сильной посмертной деформацией лобной кости и лицевого отдела принадлежал мужчине, умершему в зрелом возрасте (40– 50 лет). Из имеющихся в наличии измеренных признаков можно охарактеризовать череп как низкосводчатый с широким основанием и затылком. Рельеф на черепе хорошо выражен: особенно область надпереносья, надбровные дуги, сосцевидные отростки. Лицевой скелет также широкий, альвеолярная дуга короткая и узкая, а ширина неба и носа средних значений. Нижний край грушевидного отверстия антропинной формы с хорошо развитой передне-носовой остью.
Таким образом, антропологический тип единственного женского черепа среднесарматского времени из диагонального погр. 1 кург. 9 хорошей сохранности определяется как мезокранный с широким лицом, на котором можно подозревать нарушение расового комплекса: слабая профилировка его в области глазниц в сочетании с умеренно выступающим носом.
Характеристика серий позднесарматского времени. Выборка этого времени насчитывает 19 черепов (табл. 1). Из них 13 мужских и 6 женских и 13 черепов со следами преднамеренной искусственной деформации по типу лобной, лобно-затылочной и кольцевой (рис. 3, 2 ). Последние два типа часто встречаются на черепе в сочетании [Жиров, 1940; Гинзбург, 1949; Балабанова, 2001; 2017; и др.].
Черепа, искаженные деформацией, несколько отличаются от недеформированных, хотя следует признать наличие в обеих группах одних и тех же морфологических компонентов (табл. 1). Так, мужские группы неде-формированных и деформированных черепов отличаются между собой, что, скорее всего, связано с изменениями, претерпеваемыми черепом в процессе роста и развития под давлением деформирующей конструкции. Деформированная группа несколько короче, уже и выше недеформированной. В связи с этим не-деформированная группа по пропорциям ме-зокранная, а деформированная – долихо-ме-зокранная. Основание в обеих группах одинаково устроено, оно длинное и широкое. Лобная кость тоже имеет похожий угол наклона и угол поперечного изгиба, только на деформированных черепах она шире. По параметрам лицевого скелета обе группы тоже незначительно отличаются. У деформированных черепов лицо несколько шире и резче профилировано, чем у недеформированных. Кроме того, на деформированных черепах выше и шире нос, выше орбиты, переносье и носовые кости, а вот угол профиля носа в обеих группах один и тот же. Приведенная выше характеристика мужских групп позволяет диагностировать их тип как тип длинноголовых европеоидов.
Женские группы деформированных и не-деформированных черепов имеют больше различий (табл. 1). Но в связи с тем, что серии малочисленные и к тому же отличаются плохой сохранностью, учитывать их следует условно. Так, недеформированный череп хорошей сохранности из погр. 1 кург. 55, принадлежащий женщине около 40 лет, сочетал длинный продольный, узкий поперечный и высокий высотный диаметры (20 размер по Мартину) (табл. 1). По указателю череп резко до-лихокранный с пентагоноидной верхней нормой и умеренно развитым рельефом. Лобная кость средней ширины с резкой профилировкой по поперечному изгибу и наклонная по линии назион-метопион. Ее хорда и дуга длинные. У затылочной кости дуга короткая, хорда средней длины. У теменной же кости оба размера большие.
Лицо узкое и высокое клиногнатное и ортогнатное с тенденцией к мезогнатии. Альвеолярная дуга длинная и узкая, а небо среднеширокое. Нос высокий и узкий как по ширине, так и по указателю (лепторинный) с ант-ропинным краем грушевидного отверстия. Глазница среднеширокая и очень высокая по абсолютной высоте и гипсиконхная по указателю. Клыковая ямка глубокая.
Группа деформированных черепов по абсолютной длине попадает в категории малых величин по мировой рубрикации, ее ширина – средняя. По пропорциям черепная коробка брахикранная, гипсикранная и акрок-ранная. Высота свода в группе большая как по высотному диаметру от базион-брегма, так и по ушной высоте (порион-порион). Лобная кость средней ширины, плоская на уровне перегиба и наклонная по линии назион-метопион.
Лицо широкое высокое, в горизонтальной плоскости его профилировка ослаблена на верхнем уровне и резкая на среднем. В вертикальной плоскости лицо слабо выступает – ортогнатное. Нос в группе узкий и высокий, по указателю лепторинный. Орбиты широкие и высокие по абсолютной ширине, но средневысокие по указателю (ме-зоконхные). Данные по переносью и носовым костям позволяют определить их как среднеширокие и высокие, в то время как угол выступания носа большой.
Прежде чем перейдем к следующему этапу исследования – внутригрупповому анализу – отдельно рассмотрим черепа, полученные из погребений, которые в обряде сочетали среднесарматские и позднесарматские черты. Это в первую очередь комплексы, в которых диагональное положение костяка сочетается с южной ориентировкой, что является среднесарматской чертой, а сопутствующий инвентарь датируется позднесарматским временем. Это мужской череп из погр. 1 кург. 75, который сочетает брахикранию с широким и высоким лицом, у которого горизонтальная профилировка ослаблена на уровне скуловых костей (рис. 3, 4 ). Данный комплекс больше характерен для среднесарматского времени. Женский череп из погр. 1 кург. 55, наоборот, сочетает комплекс признаков, который является отличительной особенностью позднесарматского времени – долихокранный европеоидный тип. Стоит рассмотреть и тип черепов, полученных из широких прямоугольных ям, в которых погребенных укладывали по продольной оси ямы с ориентировкой в южный сектор. Морфологический тип мужского черепа из погр. 1 кург. 54 также как и женский череп из погр. 1 кург. 55 определяется как тип длинноголовых европеоидов. Тип второго черепа к тому же со следами искусственной деформации из аналогичного комплекса (кург. 64, погр. 1) определяется как ме-зокранный европеоидный, хотя и имеется уплощение на среднем горизонтальном уровне лицевого скелета.
На наш взгляд, следует рассмотреть отдельно и череп, полученный из погр. 1 кург. 63 (рис. 3, 3 ). Он также был искажен преднамеренной деформацией, но сочетание признаков позволяет подозревать монголоидную примесь.
Таким образом, выше приведенная характеристика черепов позволяет говорить о том, что на конкретном материале могильника Старица во второй половине II – первой половине III в. какая-то часть среднесарматского населения в Нижнем Поволжье сохраняет как свои погребальные традиции, так и антропологический тип [Балабанова, Кривошеев, 2018, с. 60].
Внутригрупповой анализ проводился методом главных компонент с объединенной серией черепов среднесарматского и поздне- сарматского времени с переводом женских черепов в мужские, с использованием коэффициентов полового диморфизма (табл. 2) [Алекссев, Дебец, 1964, табл. 12, с. 123–125]. Чтобы свести к минимуму изменчивость признаков, связанную с влиянием деформирующей конструкции, пришлось исключить из анализа абсолютные размеры черепной коробки. Для анализа главных компонент (далее – ГК) использовался следующий набор признаков: 8:1; 45; 48; 54; 55; 51; 52; DS:DC; SS:SC; 77;
I ГК, вес которой 29,4 % дисперсии, имеет высокие положительные корреляции с черепным указателем (8:1), скуловой шириной (45), шириной глазницы (51) и с назомалярным углом (77), а высокие отрицательные с двумя носовыми признаками шириной (54) и углом выступания (75-1). Таким образом, I ГК выделяет, с одной стороны, комплекс, сочетающий брахикранную черепную коробку с широким плоским на верхнем уровне лицом, широкой глазницей узким, слабо выступающим носом; с другой – комплекс, сочетающий до-лихокранную черепную коробку с узким, резко профилированным на уровне глазниц лицом, относительно узкой глазницей и широким, хорошо профилированным носом. Высокие положительные значения по I ГК имеют черепа из кург. 63 и 75, а отрицательные – черепа из кург. 13, 55 и 57. Все черепа были получены из погребений позднесарматского времени. II ГК с дисперсией более 20,0 % от внутригрупповой изменчивости имеет только высокие положительные нагрузки и только с высотными признаками: с верхней высотой лица (48), высотой носа и высотой глазницы. Видимо, она разграничивает высоколицый с высоким носом и глазницей тип (+ полюс изменчивости) от низколицего с низким носом и глазницей. Первый вариант встречается на черепе из кург. 55, а второй – на черепах из кург. 57 и 75. Выше приведенная картина распределения типов внутри серии свидетельствует о ее неоднородности. Для выделения реально существующих морфологических компонентов матрица внутригрупповых корреляций обраба- тывалась кластерным методом и методом многомерного неметрического шкалирования. Результаты отражены на рисунке 4.
Согласно этим результатам можно выделить 3 морфологических сочетания внутри исследуемой группы (рис. 4). Первый тип – мезокранный европеоидный с широким и средневысоким лицом, широкими и высокими глазницами (рис. 3, 1 ; 3, 2 ). Второй тоже европеоидный долихокранный, относительно узколицый и высоколицый с узким носом и глазницей. Третий тип отличается мезо-брахикран-ной черепной коробкой в сочетании с широким высоким и умеренно профилированным на верхнем горизонтальном уровне лицом и средневыступающим носом к линии профиля. Возможно, сочетание брахикрании, широкого высокого уплощенного лица и умеренного угла выступания носа является свидетельством сильно разбавленной монголоидной примеси.
Основные выводы . Подводя итоги результатам исследования серий среднесарматского и позднесарматского времени могильника Старица следует высказать некоторые соображения, которые можно принять условно, так как и археологический, и антропологический материалы немногочисленны и отличаются плохой сохранностью.
-
1. Анализ погребальных комплексов среднесарматского и позднесарматского времени в могильнике Старица демонстрирует взимопроникновение двух культурных традиций на этапе их взаимодействия, которое началось, видимо, около середины II в. н.э. с появлением в Нижнем Поволжье носителей позднесарматской культуры.
-
2. Трансформация таких признаков среднесарматской культуры, как диагональные погребения, и появление в них таких признаков позднесарматской культуры, как северная ориентировка погребенных, кубические курильницы, черепа со следами искусственной деформации, могут свидетельствовать о влиянии новой культуры на традиции местного населе-
- ния, продолжавшего обитать на этой территории и использовать данный могильник.
-
3. Антропологический материал показывает, что в этом регионе население среднесарматского и позднесарматского времени частично сохраняет облик своих предшественников, население раннесарматского времени.
-
4. Внутригрупповая структура населения исследуемого хронологического пласта оказалась неоднородной. Прежде всего, выделяется тип пришлого населения, представители которого были носителями длинноголового европеоидного комплекса, и тип предшественников носителей мезо-брахикранных сочетаний. К этим двум компонентам можно добавить еще и носителей метисного европеоидно-монголоидного сочетания.
-
5. Как и все население первых веков нашей эры из других могильников, исследуемая группа практиковала обычай искусственной деформации головы. При этом доля деформированных черепов составляет около 58,0 %, что несколько ниже, чем как в близко расположенных могильниках, так и в отдаленных.
Список литературы Преемственность и новации в средне- и позднесарматской культурах (по материалам курганного могильника Старица)
- Алексеев В. П., Дебец Г. Ф., 1964. Краниометрия. Методика антропологических исследований. М. : Наука. 127 с.
- Балабанова М. А., 2001. Обычай искусственной деформации головы у поздних сарматов: проблемы, исследования, суждения и результаты // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 4. С. 107-122.
- Балабанова М. А., 2017. Современные исследования морфологических и культурных аспектов обычая искусственной деформации головы в традиционных культурах народов мира // Stratum plus. № 6. С. 17-42.
- Балабанова М. А., Кривошеев М. В., 2018. Диагональные погребения как маркер преемственности в сарматских культурах в первые века нашей эры // Нижневолжский археологический вестник. Т. 17, № 1. С. 50-75.
- Безуглов С. И., Глебов В. П., Парусимов И. Н., 2009. Позднесарматские погребения в устье Дона (курганный могильник Валовый-I). Ростов н/Д : Медиа-Полис. 128 с.
- Боталов С. Г., Гуцалов С. Ю., 2000. Гунно-сарматы Урало-казахстанских степей. Челябинск: Рифей. 269 с.
- Геннеп А., 1999. Обряды перехода Систематическое изучение. М.: Восточная литература. 198 с.
- Гинзбург В. В., 1959. Этногенетические связи древнего населения Сталинградского Заволжья (по материалам Калиновского могильника)//Материалы и исследования по археологии СССР. № 60. М.: Изд-во АН СССР. С. 524-594.
- Дерябин В. Е., 1983. Многомерная биометрия для антропологов. М.: Изд-во МГУ. 227с.
- Жиров Е. В., 1940. Об искусственной деформации головы//Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Вып. 8. М.: Изд-во АН СССР. С. 81-88.
- Кривошеев М. В., 2004. О хронологии позднесарматских зеркал с центральной петелькой//Проблемы археологии Нижнего Поволжья: тез. докл. I Междунар. Нижневолж. археол. конф. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 238-242.
- Кривошеев М. В., 2005. Комплексы позднесарматского времени могильника Старица//Археологические записки. Вып. 4. Ростов н/Д: Донское археологическое общество. С. 65-72.
- Кривошеев М. В., Скрипкин А. С., 2011. Формирование и развитие позднесарматской культуры в Нижнем Поволжье (по данным погребального обряда)//Погребальный обряд ранних кочевников Евразии: материалы VII Междунар. науч. конф. (11-15 мая 2011 г., Ростов-на-Дону, Кагальник). Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН. С. 75-85.
- Матюхин А. Д., 1992. Сарматские памятники I-IV вв. Саратовского Правобережья (краткий обзор материала)//Археология Восточно-Европейской степи: межвуз. сб. науч. тр. Саратов: Изд-во СГУ. Вып. 3. С. 144-158.
- Скворцов Н. Б., 2001. Археологические исследования курганного могильника Солянка I//Нижневолжский археологический вестник. № 4. С.243-245.
- Скрипкин А. С., 1977. Фибулы Нижнего Поволжья (по материалам сарматских погребений)//Советская археология. № 2. С. 100-120.
- Скрипкин А. С., 1987. Этнические проблемы сарматской культуры//Вопросы древней и средневековой истории Южного Урала: сб. науч. тр. Уфа: БФАНСССР, 1987. С. 88-104.
- Шилов В. П., 1968. Позднесарматское погребение у с. Старица//Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. Л.: Наука. С. 310-322.
- Raev B. A., 1986. Roman Imports in the Lower Don Basin//British Archaeological Reports, International Series 278. Oxford. 219 p.