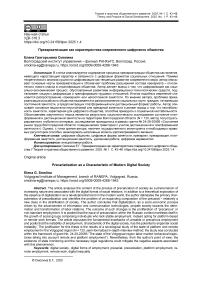Прекариатизация как характеристика современного цифрового общества
Автор: Смолина Е.Г.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется содержание процесса прекариатизации общества как явления, имеющего нарастающий характер и связанного с цифровым форматом социальных отношений. Помимо теоретического анализа сущности цифровизации как тенденции развития современного мира, автор описывает основные черты прекариатизации и обозначает проблему расширения состава прекариата - относительно нового класса в стратификации общества. Автор делает вывод о том, что цифровизация как социально-экономический процесс, обусловленный развитием информационно-технологических средств, подталкивает социум к деформации и трансформации трудовых отношений. Итогом подобных изменений становится распространение «прекарной» или непостоянной занятости. По мнению автора, проблема прекариатизации российского общества выражается в распространении социальных групп граждан, не имеющих постоянной занятости, а предпочитающих платформенный или дистанционный формат работы. Автор описывает основные недостатки неустойчивой или прекарной занятости и делает вывод о том, что нестабильность занятости, характерная для цифрового общества, способна приводить к социальной нестабильности. Обоснованием озвученного тезиса являются результаты социологического исследования состояния платформенной и дистанционной занятости на территории Волгоградской области (N = 120, метод полуструктурированного глубинного интервью; исследование проводилось в рамках гранта № 24-28-20066 «Состояние рынка труда Волгоградской области: поведенческие траектории с учетом дистанционной и платформенной занятости»). Однако, с точки зрения автора, наличие государственного мониторинга и необходимых правовых регуляторов способно нивелировать негативные аспекты рассматриваемого явления.
Цифровое общество, цифровые формы занятости, прекариат, прекаризация, платформенная занятость, дистанционная занятость, удаленная работа, цифровое неравенство
Короткий адрес: https://sciup.org/149147640
IDR: 149147640 | УДК: 316.3 | DOI: 10.24158/tipor.2025.1.4
Текст научной статьи Прекариатизация как характеристика современного цифрового общества
Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, Волгоград, Россия, ,
Volgograd Institute of Management, branch of RANEPA, Volgograd, Russia, ,
Согласно мнению академика РАН Г.В. Осипова, социальная реальность является результатом человеческой деятельности (Осипов и др., 2014). Исходя из данного тезиса, цифровое конструирование мира реализуется посредством распространения цифровых форм коммуникации и развития информационных систем. Цифровая «метаморфоза современного мира», о которой, в том числе, пишет в своих трудах У. Бек (Бек, 2000; Гаврилов, 2016: 321), изменяет устоявшееся восприятие действительности, формируя новые модели отношений. Другими словами, современное общество, именуемое преимущественно как «цифровое», – это итог нового социального порядка отношений, основанных на научно-технических достижениях и применении процесса цифровизации.
Цифровизация, воспринимаемая, прежде всего, как использование цифрового формата, опосредованного информационно-технологическими средствами, на настоящий момент создает новые критерии социальной стратификации общества (Капелюшников, Зинченко, 2024). В контексте неустойчивости и институциональных изменений цифровой повседневности возникает вопрос об увеличивающейся прекариатизации российского общества. Прекариатизацию нельзя отнести к достаточно исследованным категориям: неопределенность наблюдается как с точки зрения содержания и институциональных проявлений, так и с позиции состава субъектов, выбирающих такой формат отношений и занятости. Этот аспект актуализирует теоретический анализ сущности рассматриваемого явления.
Прекариат представляет собой сравнительно новое социальное явление в стратификации общества (Гасюкова, 2015; Резанов, Волкова, 2019; Тартаковская, Ваньке, 2019; Коновкин, 2021: 109; Кученкова, 2022: 74). Это класс, в который входят люди, не имеющие постоянной работы и заработка, и, соответственно, социальных гарантий, которые обеспечивают государство и работодатели. Несмотря на то, что границы социальной группы «прекариата» представляются достаточно размытыми, ряд исследователей предпринимают попытки описания ее состава. Согласно концепции Ж.Т. Тощенко, к прекариату следует относить безработных, фрилансеров, мигрантов, стажеров, то есть тех, кто работает неполный рабочий день и для кого характерна нестабильность получаемого дохода (Прекариат: становление нового класса…, 2020). С точки зрения Г. Стендинга, именно статус временного работника является главным критерием отнесения к прекариату (Стендинг, 2014).
По мнению автора настоящего исследования, следует выделять экономические и психологические группы факторов, влияющих на развитие прекариатизации как социального явления. Прекариатизация деформирует стандартную модель трудовых отношений (наемный работник с выделенным рабочим местом, работающий по трудовому договору) и развивает атипичные или прекарные формы занятости.
Таким образом, для прекарной занятости характерны полная или частичная неоформленность трудовых отношений, нестабильная оплата труда и полное либо частичное отсутствие социальных гарантий на фоне неустойчивости жизненных ориентаций или неуверенности в своем будущем (Илларионова, 2021: 23; Фишман, 2022; Миронова, Алексапольская, 2024; Ильвес 2016). Причиной роста прекариатизации в нашей стране стало увеличение доли цифровой занятости (Капелюшников, Зинченко, 2024; Керимов, 2019; Кученкова, 2022).
Отечественные ученые Т.А. Камарова и Н.В. Тонких под цифровой занятостью понимают сегмент занятости населения, отличительным признаком которого является применение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в процессе воспроизводства товаров и услуг. Авторы отмечают видовое разнообразие форматов цифровой занятости (Камарова, Тонких, 2022: 25). Большинство современных исследователей рассматривают цифровую занятость в русле нетрадиционной или нестабильной занятости, для которой, помимо использования ИКТ, характерны гибкий режим труда и отсутствие привязанности к рабочему месту. При этом распространение цифровой занятости происходит неравномерно, что обусловлено содержанием труда по видам экономической деятельности. На настоящий момент принято выделять платформенную и дистанционную занятость как современные формы цифровой занятости1.
По сведениям Международной организации труда (МОТ), за последние десять лет (начиная с 2013 г.) число платформ цифрового труда, сконцентрированных в нескольких странах мира, увеличилось в пять раз2. На настоящий момент в России также отмечается рост платформенной занятости, который свидетельствует о растущих показателях вовлеченности граждан в данный формат доходной деятельности. В нашей стране платформенная занятость законодательно не регулируется, однако в марте 2023 г. была предпринята попытка к созданию подобного правового механизма: Государственной думой в первом чтении был принят законопроект № 275599-8 «О занятости населения в РФ». При этом, по состоянию на конец 2024 г., дальнейших действий по урегулированию обозначенного вопроса не произведено.
Следует отметить, что сам законопроект не дает исчерпывающего представления о сущности и содержании платформенной занятости, ограничиваясь только фиксацией определения анализируемого понятия, сводимого к обязательному наличию платформы как посредника между заказчиком и исполнителем. Однако с целью содействия в регулировании занятости в апреле 2023 г. ряд платформ подписали Хартию о принципах развития платформенной занятости в России. Кроме того, был создан саморегулируемый Совет цифровых платформ при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). В него вошли «Яндекс», Ozon, Wildberries, HeadHunter, «СберМаркет», Avito, «Газпром нефть» («Профессионалы 4.0») и YouDo1.
Таким образом, платформенная занятость представляет собой новый атипичный вид занятости через онлайн-платформы, которые выступают медиаторами и фасилитаторами в процессе оказания услуг. Как отмечает ряд специалистов, платформенная занятость – это простой и доступный способ получения дополнительного дохода2 (Илларионова, 2021: 22). Однако, с точки зрения автора, в случае, если такая форма занятости становится основным видом деятельности и единственным источником дохода, возникает риск прекариатизации.
Другой аспект изменений связан с категорией дистанционной занятости. Обзорный теоретический анализ позволяет сделать вывод о синонимичном восприятии понятий «дистанционная занятость» и «удаленная работа». Законодательное закрепление последнего облегчает порядок применения категории дистанционной занятости: согласно статье 312.1 Трудового кодекса РФ, удаленная работа – это выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя и вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя. Однако, по мнению автора, содержание дистанционной занятости намного шире и включает в себя не только понятие удаленной работы: помимо формата трудовых отношений к дистанционной занятости следует относить занятость по устной договоренности, договору гражданско-правового характера, а также оказание услуг в статусе самозанятого.
Если для платформенной занятости определяющим является наличие платформы как посредника, то дистанционная занятость институционализируется через удаленный режим работы. При этом последний тип занятости в меньшей степени способствует прекариатизации, хотя и видоизменяет формат трудовых отношений, превращая его в категорию гибридного.
Так, по данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, проводившего в 2023 г. мониторинг цифровой трансформации бизнеса, сотрудники работают в гибридном режиме (удаленно один или несколько раз в неделю) чаще, чем полностью в дистанционном (Дистанционная занятость: масштабы распространения в компаниях…, 2024).
С целью анализа особенностей атипичных форм занятости и определения сущностной стороны их восприятия у различных категорий общественности в июле-августе 2024 г. коллективом авторов было проведено социологическое исследование поведенческих траекторий жителей Волгоградской области как участников рынка труда с учетом дистанционной и платформенной занятости (июль-август 2024 г., N = 120; метод – индивидуальный очный опрос в виде полуструк-турированного глубинного интервью; исследование проводилось в рамках гранта № 24-28-20066 «Состояние рынка труда Волгоградской области: поведенческие траектории с учетом дистанционной и платформенной занятости»). В интервьюировании принимали участие как городские жители, так и представители сельских поселений. Следует сразу отметить, что среди последней группы опрошенных платформенный и дистанционный формат занятости ожидаемо распространен в меньшей степени.
По итогам исследования, не наблюдается четкого понимания сущности видов цифровой занятости, однако преимущественная часть информантов воспринимают прекарные формы занятости следующим образом: по мнению большинства информантов, платформенная занятость – это, прежде всего, форма занятости, при которой специалисты используют онлайн-платформы для поиска клиентов, коммуникации с ними и выполнения задач или для продажи товаров. Иначе трактуется дистанционная занятость: это вид нетрадиционной занятости, преимущественно реализуемой через формат удаленной работы, предусматривающей заключение как трудового договора, так и договора гражданско-правового характера.
Одна из задач исследования заключалась в оценке причин и последствий распространения атипичных форм занятости в контексте транзитивного состояния современного социума. По мнению авторов социологического исследования, прекариатизация, как процесс распространения нестандартной и нестабильной занятости, в большей степени свойственна и характерна для таких социальных групп, как молодежь, женщины в декрете и самозанятые.
При этом наиболее актуальной поднятая проблематика представляется для молодежи, так как данная группа населения считается наиболее включенной в цифровое пространство и активно воссоздающей феномен непостоянной или временной занятости.
Следует отметить, что женская прекарная занятость на настоящий момент рассматривается в качестве закономерного этапа развития такого типа гендерного контракта, как «работающая мать», ставшего популярнее в последние несколько лет по причине изменения конфигурации цифровых коммуникаций.
Самозанятый – это человек, который работает сам на себя и продает товары собственного производства, не имея наемных работников по трудовому договору, при этом применяющий «налог на профессиональный доход» (НПД)1. По данным ФНС России, к концу 2024 г. число самозанятых в Российской Федерации достигнет отметки в 12 млн человек2. Средний возраст самозанятого – 36 лет, при этом основную долю плательщиков НПД составляет группа до 29 лет (53 %); с увеличением возраста доля самозанятых снижается, сохраняя значительные показатели среди категории трудоспособного населения – группа от 30 до 39 лет (31 %), группа от 40 до 49 лет (22 %)3.
Итоги проведенного исследования подтвердили факт включенности молодежи, женщин в декрете и самозанятых в платформенную и дистанционную занятость, что свидетельствует о потенциальном росте прекарной или нестабильной занятости.
Если говорить о влиянии психологического и экономического факторов на процесс распространения прекарной занятости, то итоги исследования демонстрируют наибольшую значимость экономического показателя по сравнению с ценностным аспектом. Согласно проведенному исследованию, показатели участия в прекарной занятости статистически значимо коррелируют с показателями оплаты труда. По мнению информантов из числа прекарных групп населения, атипичные формы занятости – платформенная и дистанционная – позволяют человеку, в первую очередь, получить высокий доход (95 % опрошенных).
Этот вывод подтверждается статистически: по данным службы исследований крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга, по итогам 2023 г. в России доход таксиста в несколько раз превышает доходы врача или преподавателя4. При этом сложившаяся на настоящий момент разница доходов платформенного работника и сотрудника традиционной занятости значительно влияет на фактор социальной стабильности.
Та часть информантов, которая продемонстрировала низкую включенность в прекарные форматы занятости (степень включенности определялась по наличию опыта платформенной и дистанционной занятости (регулярная, эпизодическая, отсутствует), знаний о сущности рассматриваемых явлений и желании перейти к прекарному типу занятости), выражает крайне негативную оценку той разнице дохода, который существует между занятыми на платформах и теми, кто трудится в рамках традиционной занятости.
Другими словами, по итогам исследования выявлен факт некоторой степени конфликтности и конфронтации между прекариатом и теми, кто работает в традиционном формате. Далее приведены формулировки, озвученные информантами из числа работников с традиционным типом занятости, то есть работающих по трудовому договору.
« У меня высшее образование и опыт, а я на государственной службе получаю в два раза меньше, чем неквалифицированные мигранты-таксисты или студенты-курьеры, <^>, конечно, зачем потом молодежи обучаться работать головой, если его ноги прокормят » (мужчина, 43 года).
« Почему государство не занимается этим вопросом? Таксист важнее учителей, врачей и токарей, получается. Понятно, что у нас сейчас общество потребления, большой спрос на такие услуги, ведь люди стали ленивые… » (женщина, 35 лет).
« Да, туда идет молодежь, ведь там живые деньги, зачем напрягаться мозгами, когда тебе сказали – иди туда, принеси сюда, да, физически тяжело, зато помучился и получил реальные деньги, а не то, что у меня оклад… » (мужчина, 36 лет).
Таким образом, на фоне усиления значимости экономического дохода для информантов с прекарной занятостью наблюдается создание негативного социального фона в силу разницы доходов между платформенными работниками и трудящимися в рамках традиционной занятости.
При этом следует отметить, что молодежь демонстрирует наибольшую уверенность и приверженность к прекарному типу занятости: молодые люди чаще остальных рассматривают платформенную и дистанционную занятость как основной формат рабочей деятельности, отвечающий их ценностям и установкам. Восприятие нестандартных форм занятости, как профессионального типа трудового поведения, характерно для большинства информантов из числа женщин в декрете, которые признают большие перспективы такого формата труда, а также преимущественной части информантов-плательщиков НПД. Однако последние две группы, причисляемые к прекариату, в интервью чаще остальных указывали на вынужденный характер обращения к цифровой занятости, а также на высокую значимость фактора «моральной рациональности»: при превалировании экономического фактора такие информанты указывали на важность компромисса между материнством, родительством, заботой о близких и работой. Следовательно, именно прекарная занятость обеспечивает так называемый «жизненный баланс» в дихотомии «семья-работа». Этот аспект также можно рассматривать в качестве драйвера развития прекарной занятости.
Таким образом, с точки зрения автора настоящего исследования, цифровые формы занятости напрямую влияют на прекариатизацию общества, изменяя конфигурацию отношений на рынке труда. При значительном перечне положительных аспектов цифровой (платформенной и дистанционной) занятости, связанной, прежде всего, с понижением уровня безработицы и снятием напряженности на рынке труда, следует обратить внимание на дестабилизирующий эффект прекариатизации. Нестабильная занятость приводит к деформации трудовых отношений и недополучению государством социальных и налоговых платежей. В частности, отсутствие правового регулятора развития платформенной занятости создает проблему усиления расслоения общества и является потенциальной причиной нарастания социальной напряженности, диктуемой разницей доходов. Следовательно, прекариатизация, являясь характеристикой современного цифрового общества, нуждается в государственном мониторинге и создании конкретных правовых регуляторов, способных нивелировать негативные аспекты рассматриваемого явления.
Список литературы Прекариатизация как характеристика современного цифрового общества
- Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / пер. с нем. В. Седельникова, Н. Федоровой. 2000. 384 с. EDN: RAYTKJ
- Гаврилов К.А. От общества риска к метаморфозам мира: памяти Ульриха Бека // Социологический ежегодник. М., 2016. С. 317-330. EDN: YFWZZN
- Гасюкова Е.Н. Прекаризация: концептуальные основания, факторы и оценки // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2015. Т. 8, № 6. С. 28-46. EDN: VJLTRH
- Дистанционная занятость: масштабы распространения в компаниях: мониторинг цифровой трансформации бизнеса / под ред. М.Ю. Соколова. М., 2024. Вып. 5. 12 с. DOI: 10.17323/ISSEK_BDTM_5
- Илларионова Э.О. Новые формы занятости в контексте цифровизации рынка труда // Наука. Культура. Общество. 2021. Т. 27, № 1. С. 21-32. DOI: 10.19181/nko.2021.27.1.2 EDN: SJTEDK