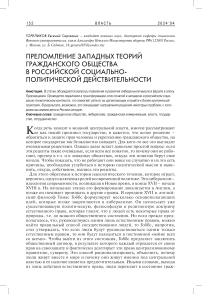Преломление западных теорий гражданского общества в российской социально-политической действительности
Бесплатный доступ
В статье обсуждаются вопросы появления и развития либеральной мысли в Европе в эпоху Просвещения. Проводятся параллели в трансформации этих понятий в западном и российском социально-политическом контексте, что помогает уйти от их догматизации и прийти к более критической трактовке. В результате, возможно, это показывает направления решения некоторых проблем, с которыми мы имеем дело в России сегодня.
Гражданское общество, либерализм, гражданская коммуникация, власть, государство, сотрудничество
Короткий адрес: https://sciup.org/170205843
IDR: 170205843 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-4-152-158
Текст научной статьи Преломление западных теорий гражданского общества в российской социально-политической действительности
К огда речь заходит о мощной центральной власти, многие рассматривают ее как некий произвол государства, и кажется, что ясное решение – обратиться к защите прав человека и укреплению гражданского общества, на которое государство так безжалостно нападает. Для кого-то все это выглядит очевидными рецептами. Однако далее встает довольно простой вопрос: если эти рецепты такие очевидные, если всем все понятно, то почему они не работают, причем в т.ч. и в западных обществах, откуда эти понятия берут свое начало. Чтобы показать, что не работают они вовсе не случайно и на это есть причины, необходимо углубиться в историю политической мысли и выяснить, откуда, собственно, взялись эти рецепты.
Для этого обратимся к истории идеологического течения, которое играет, вероятно, одну изключевых ролей всовременной политике. Этолиберализм– идеология современности, возникшая в Новое время, в конце XVII – начале XVIII в. На начальных этапах его формирование локализуется в Англии, а позже он начинает проникать в другие страны. В середине XVII в. английский философ Томас Гоббс формулирует несколько основополагающих идей, которые позже закрепляются в либерализме. Он использует уже существовавшую политическую, философскую и религиозную доктрину естественного права, которая гласит, что у людей есть некоторые права от природы, т.е. до всякого общественного состояния. Но если прежде предполагалось, что, руководствуясь одним лишь естественным правом, можно найти правильный способ сосуществования людей, то Гоббс, напротив, стал утверждать, что если люди будут руководствоваться одним только естественным правом, то они будут находиться в постоянной «войне всех со всеми». Чтобы выйти из этого состояния, Гоббс предлагает заключить общественный договор, в результате которого каждый отрекается от своих прав на самозащиту и фактически делегирует эти права централизованному правителю, суверену. Это способ рационализировать, объяснить, почему люди живут вместе в мире и почему они живут именно под центральной властью и ее наличие является предпочтительным. Иными словами, выходя из зоны действия естественного права, люди переходят в состояние граж- данское. Это состояние не характеризуется тем, что люди полностью утрачивают страх перед себе подобными, но теперь вместо того, чтобы бояться друг друга, люди начинают бояться суверена, у которого есть абсолютная власть. Воззрения Гоббса оказали серьезное влияние на дальнейшее формирование либеральной традиции.
Позже, уже ближе к концу XVII в. идеи Гоббса были доработаны и во многом изменены другим английским философом, которого чаще считают основоположником либеральной мысли, – Джоном Локком. Возможно, самые важные сюжеты, на которые Локк смотрел иначе, – это сюжеты, связанные с суверенитетом. Если Гоббс предполагал, что суверен является итогом, производной того самого общественного договора, то Локк не верил в доктрину суверенитета и не считал, что при объединении людей для защиты своей жизни и имущества есть необходимость все абсолютно права отдавать суверену. То есть, с его позиций, правительство действительно может обладать целым набором прежде не данных прав, однако на это правительство всегда должна быть управа, т.е. сообщество, которое входит в договор, всегда оставляет за собой право сменить правительство. И поэтому Локк, собственно говоря, был идеологом революции – как раз того, что Гоббс считал абсолютно недопустимым и неприемлемым.
И Гоббс, и Локк – оба использовали конструкт гражданского общества как некоторого объединения и некоторой коммуникации между гражданами. У обоих философов идея мирного сосуществования идет рука об руку с идеей общего блага, служения общему благу. Однако можно видеть, что это два совершенно разных регулирующих принципа: одно дело существовать ради общего блага, и совсем другое – просто мирно сожительствовать. Поэтому и у Гоббса, а потом более ярко у Локка возникает вопрос, чем это самое гражданское общество является и как оно соотносится с государством.
Следует обратить внимание на то, что в тот момент говорят не об обществе как таковом, а о гражданском обществе. Хотя кажется, что сначала должно появиться слово «общество», а потом к нему добавляется конкретизация – «гражданское». Чтобы понять, почему на самом деле все происходило ровно наоборот, надлежит помнить, что Джон Локк был человеком обеспеченным, был частью крепнущей английской буржуазии, которая под гражданами подразумевала в первую очередь самих себя. Это образ бюргера, зажиточного горожанина, уверенного в своей собственности и заботящегося о ее защите. Поэтому Локк действует в интересах именно этого слоя. Он предлагает гражданское общество как некоторое объединение, которое не совпадает с государством как объединением тех, кто коммуницирует вокруг коммерческого обмена в условиях нарождающегося раннего капитализма. Именно тогда начинается постепенный отход от идей Гоббса, и либеральная мысль начинает «вбивать клин» между гражданским обществом и государством.
Франция представляет собой наиболее известный и уместный пример развития либеральных идей и институтов гражданского общества. Во Франции XVIII в. у гражданского общества еще не было никакого серьезного замысла противостояния абсолютной монархии. Но процесс становления буржуазии, ее укрепление в силу чисто экономических причин и развитие культурных практик диалога приводят к тому, что через короткое время она, естественно, начинает расширять сферу своих обсуждений, а сама коммуникация в рамках гражданского общества начинает играть все более важную роль. Через некоторое время предсказуемым образом в круг вопросов, которые обсужда- ются в этой самой публичной сфере, попадают вопросы политики. Тогда же, в середине XVIII в., возникает термин «общественное мнение», которое на любом другом языке, кроме русского, никакой отсылки к обществу не содержит, а звучит как «публичное мнение» [Бакштановский, Согомонов 2004: 152]. Являясь продуктом публичной сферы, публичное мнение начинает претендовать на роль главного и единственно верно понимающего общественное благо субъекта, считая, что страной должно править именно оно, а вовсе не король. Зона публичного обсуждения по мере расширения ставит под сомнение саму необходимость послушания монарху, что, в итоге, приводит к революции. Именно в Великой французской революции 1789 г. впервые явно обозначилась эта не вполне осознанная ставка либералов на то, чтобы под предлогом расширения общественной дискуссии подтачивать основание монархии. Собственно философы французского Просвещения, способствовавшие развитию и становлению публичной сферы, были наиболее важными ее фигурантами, хотя их изначальной идеей было не поставить под сомнение власть монарха, а всего лишь просветить его, обеспечить ему нахождение в неком состоянии просвещенного абсолютизма. Тем не менее либералы переигрывают абсолютного монарха, даже если они изначально и не собирались это делать.
Во Франции того периода представления о правах человека, почерпнутые исходно из естественного права, радикализируются и выливаются в знаменитую Декларацию прав человека и гражданина 1789 г., которая уже ориентирована откровенно антимонархически и требует политических прав для каждого гражданина. В ней содержится очень важное обещание либерализма: обещание «растяжения» гражданского общества на всех по мере того, как все больше людей будут участвовать в гражданской коммуникации, которая будет фиксировать и закреплять всеобщие политические права, данные каждому человеку от рождения.
Позднее, в течение XIX–XX вв. будет происходить деполитизация гражданского общества и идеи прав человека. Траектория эволюции либерализма пройдет от политического либерализма в духе Локка, требовавшего права на восстание против власти, до либерализма экономического, рассматривавшего индивида как потенциального агента рыночного взаимодействия. Такое воззрение характерно для капитализма середины XIX в., когда достаточно успешный буржуа нуждается в том, чтобы его экономический интерес был защищен как интерес универсальный, и предлагает какие-либо рыночные идеи. Таким образом, гражданское общество получает в свое распоряжение некоторую зону (экономическую), которая не занята государством. Либерализм превращается в значительной степени в экономическую доктрину, и сама идея гражданского общества как некоторого революционного противовеса государству начинает уходить на второй план. Гражданское общество деполитизируется, перестает быть конфликтным по отношению к государству.
Еще более существенная трансформация происходит с идеей прав человека. Со временем, по мере совершенствования соответствующих юридических документов и вплоть до заложения в фундамент Организации Объединенных Наций Всеобщей декларации прав человека 1948 г. происходит выхолащивание политического содержания прав человека. На первый план выходят другие права, в которых на самом деле мало политического, – это право на жизнь, право на здоровье, экономические права: право на определенный уровень жизни т.д. Даже те права, которые изначально были глубоко политическими, например связанные со свободой слова или свобо- дой собраний, начинают интерпретироваться не как заявка на власть, а как что-то, что должно сохраняться, чтобы не возобладала полностью иррациональность. Звучит тот же изначальный либеральный аргумент, что, если государство будет запрещать собираться и обсуждать, оно просто будет приходить к иррациональным решениям. Иными словами, существование такого рода собраний и дискуссий нужно самому государству, чтобы вносить элемент разумности в политическую жизнь. Акцент явно смещается в сторону того, что для государства безопасно. И в особенности акцент смещается на защиту человека как биологического существа, и эта часть человеческого существования оказывается в фокусе дальнейшего процесса эволюции прав человека. И вот мы видим, как внутри доктрины прав человека без отказа от нее одно видение начинает замещаться другим, как «из-за спины Локка снова выходит Гоббс» и снова говорит, что все это было нужно на самом деле для того, чтобы люди просто не погибли, что государство нужно для того, чтобы защищать их от смерти. Это выглядит как новый регулятив: государство длит биологическую жизнь, в то время как от своих политических притязаний люди уже отказались. Но наряду с тем, как революционная часть уходит из либерализма, исходная линия Гоббса на простое поддержание биологической жизни сочетается с более поздней, казалось бы, хитрой стратегией либералов, состоящей в том, чтобы не идти на конфликт с монархическим государством, а постепенно расширять зону защиты прав человека и гражданского общества. Но, сработав однажды в ключевой исторический момент Великой французской революции, такая либеральная хитрость перестала работать. Государство отлично знает, чем чреваты гражданское общество и борьба за защиту прав человека, поэтому такая неявная тактика либералов легко считывается государством как опасность. Если же организации гражданского общества не политизируются, то в таком случае защита прав человека и развитие гражданской коммуникации считаются вполне приемлемыми. Более того, в современных условиях идея прав человека даже выгодна государству, потому что функционирует как запрос, как жалоба в отношении государства и никогда не ставит государство как принцип под сомнение. То есть, та политическая энергия, которая возникает внутри общества как запрос на власть, стерилизуется и превращается в запрос к власти, тем самым только подтверждая ее легитимность. Оказывается, что вся доктрина прав человека в этой новой форме служит укреплению государства.
Если говорить про Россию, то все эти события развития либеральной мысли на Западе, конечно, оказывали на нее очень сильное влияние. В период XVIII– XIX вв. Россия в интеллектуальном и духовном отношении очень сильно была зависима от Франции: русские мыслители и аристократы пытались переосмыслить французский опыт и понять, что из него может быть осуществлено в России. Это выразилось в реализации широкой либеральной программы с внедрением религиозной терпимости, гуманизации уголовного права, поощрением частной инициативы в экономической жизни, укреплением личной свободы дворян и расширением их прав собственности, а также облегчением положения крестьянства и усилением роли органов самоуправления отдельных сословий при устройстве и развитии всей административной системы [Верховская 2016: 7]. В целом стоит сказать, что подражание Западу довольно давно проявляется как характерная черта российской политической и интеллектуальной элиты. Крупные реформаторы российской истории – Петр I, Александр II, В.И. Ленин, М.С. Горбачев имели некий идеал, будь то либеральный, марксистский либо капиталистический и т.д., под который они пытались подогнать русскую реальность, однако результат подчас получался контрпродуктивным. Тот идейный образ, который пытались натянуть на Россию, развивался не вглубь, а вширь, не укореняясь и приобретая искаженные формы. Ориентация на наработки западных классиков гражданского общества и «попытки механического копирования опыта западных стран»1 изначально несут в себе ошибочный посыл, поскольку не учитываются базовые единицы общественной организации, константы построения общества. Например, в античном обществе – это полис, в арабском обществе – племя, в Индии – каста, в Китае и на Дальнем Востоке – клан и т.д. Формы выражения этих базовых единиц могут меняться со временем, но сами они неизменно воспроизводятся.
По мнению автора, константой развития российского общества является власть. Именно власть, а не государство. Понятие власти, сложившееся в России, не вписывается ни в западные схемы ее понимания, такие как поли-тия или патримониализм, ни в рамки восточных деспотий. При всей разности власти на Западе и на Востоке они похожи одним – над ними стоит закон, религия, традиция. Российская власть – это особый феномен, при нормальном функционировании над ней ничего не стоит, наоборот, она и является главным источником закона и права. К ней очень подходит название, введенное П.И. Пестелем: в его конституционном проекте при всем разделении властей в российском государстве существует особая высшая контрольная власть – «блюстительная». Кроме того, власть традиционно ассоциируется с определенным носителем – царем, императором, генсеком, президентом, а черты этатизма и патернализма воспроизводятся в российском менталитете через создание соответствующих структур, оправдывающих ее деятельность. Более того, вся история развития традиции российской власти – это борьба трех принципов: олигархического, чрезвычайного и самодержавного. И в этой борьбе не остается зазора для внедрения либеральных принципов общественного устройства, характерных для Запада.
Несмотря на это в России, по крайней мере последние сто лет и до современности, государство в целом не имеет ничего против гражданского общества, нет посыла к его ликвидации. Однако есть посыл к нейтрализации его политических притязаний, который удивительным образом воспроизводит исходный аргумент Гоббса еще с конца XVIII в. Ввиду этого появляются организации, которые формально принадлежат гражданскому обществу, но на самом деле курируются государством. То есть, организации, которыми государство инфильтрует гражданское общество, не ставят под сомнение его существование, но при этом осуществляют контроль [Вестов 2012]. Такой подход выглядит тем более оправданным, если принять во внимание значительное число гражданских организаций в России, поддерживаемых из-за рубежа, которые формально под вполне благовидными предлогами могут служить проводниками либеральной стратегии по подрыву государственных интересов. Поэтому российское государство выбирает позицию предельно комфортную и безопасную, при которой оно, совершенно не нападая на идею гражданского общества, нейтрализует конфликтный элемент, резко противопоставлявший гражданское общество государству как совершенно другое основание власти.
Таким образом, максимум, что остается возможным во взаимоотношениях между государством и гражданским обществом в России, – это сотрудничество. Государство оставляет гражданскому обществу курирование второстепенных, вспомогательных областей для работы на пользу государства либо отдельно, либо в синергии с ним. И в этом смысле, по мнению автора, на современном этапе этих взаимоотношений в условиях активных боевых действий на полях СВО, надвигающейся внешней военной угрозы НАТО и в этой связи мобилизации все большей части общества была найдена идеальная их форма. Начали формироваться новые черты гражданского общества. «И это проявляется не просто в благих намерениях и заявлениях, но в конкретных делах и поступках обычных граждан» [Ильин, Морев 2022], принимающих участие в специальной военной операции в качестве добровольцев, в инициативном размещении беженцев, в консолидированном осуждении покинувших страну людей, в сборе гуманитарной помощи, в активизации волонтерской помощи представителей некоммерческих организаций и бизнеса, в активизации патриотически настроенных информационных ресурсов.
И стоит отдать должное: деятельность таких гражданских объединений имеет потенциал совокупного положительного результата, совершенно не связанного с тем замыслом, который первоначально закладывался в либеральную доктрину, и, что интересно, в полной мере ею не учитываемого, – это польза от общего опыта. То есть, такие коллективные действия как раз будут решать общественно и национально важные задачи, но без цели получения какого-либо политического результата.
Функционирование организаций гражданского общества в любом случае опирается на солидарность, на крепкие сообщества, которые в России всегда по разным причинам были довольно слабыми. Поэтому именно в современных условиях явно заметен запрос на укрепление сообществ – местных, профессиональных и т.д., который находит свой отклик в соответствующих действиях политического руководства: в поддержке различных гражданских инициатив, во внесении изменений в законодательство, в сокращении дистанции и диалоге.
Список литературы Преломление западных теорий гражданского общества в российской социально-политической действительности
- Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. 2004. Гражданское общество: этика публичных арен: монография. Тюмень: НИИ прикладной этики ТюмГНГУ. 192 c. EDN: QWIPAX
- Верховская А.И. 2016. Потенциал гражданского общества и гражданских массмедиа в условиях политической консолидации в России (по результатам опросов социологических центров). - Медиаскоп. Вып. 4. Доступ: http://www.mediascope.ru/?q=node/2183 (проверено 17.06.2024). EDN: YHCXAN
- Вестов Ф.А. 2012. Политика формирования правового государства: противоречия и перспективы. Саратов: Изд-во СГУ. 220 с. EDN: YUMMQP
- Ильин В.А., Морев М.В. 2022. Специальная военная операция выявляет новые черты гражданского общества. - Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Вологда: Вологодский научный центр РАН. Т. 15. № 5. С. 9-32. EDN: IJGJHO