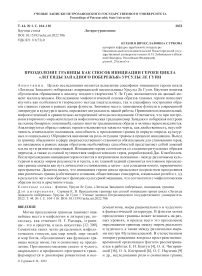Преодоление границы как способ инициации героев цикла «Легенды западного побережья» Урсулы Ле Гуин
Автор: Суркова Ксения Вячеславовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Целью исследования является выявление специфики инициации героев цикла «Легенды Западного побережья» американской писательницы Урсулы Ле Гуин. Научная новизна обусловлена обращением к анализу позднего творчества У. Ле Гуин, являющегося на данный момент малоизученным. Исследование мифопоэтической основы образов главных героев позволяет изучить как особенности творческого метода писательницы, так и специфику построения образов главных героев в рамках жанра фэнтези. Значимое место, занимаемое фэнтези в современной литературе и культуре в целом, определяет актуальность нашей работы. Применяются описательный, мифопоэтический и сравнительно-исторический методы исследования. Отмечается, что при построении вторичного мира используется мифологическая традиция (мир Западного побережья построен на основе бинарных оппозиций), однако многие традиционные образы и мотивы переосмысляются. Анализируются образы главных героев и выявляются такие их черты, как двойственность, неустойчивость изначального положения, способность к преодолению границ (в первую очередь культурных и социальных). Обращается внимание на роль ситуации травмы в процессе инициации. Выход за границу обыденного в сферу сверхъестественного становится обязательным для становления героя, но ожидаемое в рамках жанра обретение необычайных способностей представляет собой ложный ход на пути развития персонажей. Инициация героев соотносится со стадиями ритуальных обрядов перехода, а также со схемой путешествия мифологического героя, разработанной Дж. Кэмпбеллом. После прохождения инициации герои остаются в пограничном положении - между различными культурами и между миром реальности и текста, а их главной задачей становится постоянное преодоление границ: сначала как путь личностного становления, а затем - для созидания нового, гармоничного пространства. Делается вывод, что инициация героев цикла происходит посредством преодоления ими различных границ (собственного сознания, общественных стандартов, социальных ролей и т. д.), в результате чего они обретают функцию культурной медиации, что соотносится с мифологическим образом поэта и архетипом чтеца.
Фэнтези, Урсула Ле Гуин, Легенды Западного побережья, инициация, граница
Короткий адрес: https://sciup.org/147236229
IDR: 147236229 | УДК: 821.111(73).0 | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.706
Текст научной статьи Преодоление границы как способ инициации героев цикла «Легенды западного побережья» Урсулы Ле Гуин
Мотив преодоления границы занимает важнейшее место в мифологии и литературе, поскольку, как отмечает Н. Т. Рымарь, «границы – это и средства, и цель искусства» [12: 309]. Семантика таких четко разделенных мифологических топосов, как мир теней, мир людей и мир богов, обуславливает как функцию границы между ними, так и символику ее преодоления. Противопоставление своего и чужого, сакрального и профанного пространств трансформируется в двоемирие романтизма и нео- романтизма, миры рационального и чудесного в фантастической литературе. В фэнтези мотив преодоления границы может возникать на разных уровнях, и прежде всего это преодоление персонажами границы между миром реального и чудесного, а также между различными мирами внутри Мультивселенной. В отечественном литературоведении вопросы пространственновременной организации фэнтези рассматриваются в работах Е. Н. Ковтун [4], О. А. Чигиринской [16], О. А. Костровой [6], О. С. Наумчик [9] и др., исследованию роли и символики границ в фантастических произведениях посвящен сборник «В поисках границ фантастического: инициация, медиация, трансформация»1, а англоязычные исследователи выделяют произведения, предполагающие преодоление границы между мирами, в отдельный поджанр – portal (portal-quest) fantasy. В то же время в произведениях так называемого высокого фэнтези, изображающих «мир с одним пространственно-временным центром, который осмысляется как самодостаточная вселенная, не зависящая от нашей реальности» [10: 361], как правило, представлены различные разграниченные между собой топосы вторичного мира, несущие ту или иную символическую функцию.
С другой стороны, в основе многих произведений фэнтези лежит квест, в результате которого происходит как космизация вторичного мира, так и становление главного героя, поскольку, как отмечает Е. Н. Ковтун, в фэнтези важен человек в своих индивидуальных проявлениях, «открывающий для себя мир в его сложности и целостности» [5: 127]. Преодоление героем ряда препятствий ведет к изменению его личности, выявлению особых (зачастую волшебных) способностей, обретению новой социальной роли, что позволяет соотнести процесс испытаний и приключений с инициацией.
Под инициацией в антропологии и религиоведении принято понимать
«переход индивида из одного статуса в другой, в частности включение в некоторый замкнутый круг лиц (в число полноправных членов племени, в мужской союз, эзотерический культ, круг жрецов, шаманов и т. п.), и обряд, оформляющий этот переход»2.
Для инициальных (переходных / посвятительных) обрядов характерно взаимодействие с мифом на двух уровнях: с одной стороны, инициация включает в себя миф как составную часть (во время обряда испытуемому сообщаются мифы племени), с другой – структура многих мифов аналогична трехчастной структуре инициации (исключение индивида из общества / выход за пределы привычного мира, пограничный переход и возвращение, реинкорпорация в новом статусе / новой подгруппе общества). Структура и специфика обрядов инициации изучалась в работах А. ван Геннепа [3], В. Тэрнера [15], М. Элиаде [17]; на основе трехчастной структуры инициации Дж. Кэмпбелл [7] выделил универсальную схему путешествия мифологического героя, получившую развитие в работах его последователей (К. Воглер [2], М. Мёрдок [8] и др.); В. Пропп [11] исследовал связь между структурами инициации и фольклорной волшебной сказки.
Для понимания специфики инициации героев цикла «Легенды Западного побережья»3 («The Annals of the Western Shore») важно проанализировать ту роль, которую играет в ней мотив преодоления границы. Трилогия относится к позднему творчеству Урсулы Ле Гуин и включает романы «Проклятый дар» («Gifts», 2004), «Голоса» («Voises», 2006) и «Прозрение» («Povers», 2007).
ПОГРАНИЧНАЯ СИТУАЦИЯ
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВ ГЕРОЕВ
Ситуация границы задается уже в самом названии цикла «Легенды Западного побережья» – «The Annals of the Western Shore», где Shore – берег моря / край / прибрежные воды. Во многих древних космогонических мифах океан неотделим от хаоса, поэтому безграничен, опасен и неупорядочен, но в то же время вода представляет собою творческое начало 4 , и образ морской стихии обретает черты особого, иного пространства. У. Ле Гуин изначально строит мир на пограничной территории, побережье ограничено с одной стороны морем, а с другой – материком, и это определяет его потенциальную подвижность и неустойчивость. Однако мир Западного побережья построен в целом в соответствии с каноном «высокого фэнтези», заложенным Дж. Р. Р. Толкиным, а столкновение реального и чудесного происходит уже внутри этого мира.
Важнейшей для сюжета является пограничная ситуация, выступающая толчком к развитию и становлению главных героев. Урсулу Ле Гуин интересует как процесс формирования личности конкретного человека, так и пути гармонизации социального устройства и межкультурного взаимодействия. Мир Западного побережья строится на основании бинарных оппозиций (знания – невежество, вера – фанатизм, свобода – рабство), каждая составляющая которых воплощается в определенном топосе, представляющем собой сочетание географических и культурных свойств.
В «Проклятом даре» в основание противопоставления Верхних и Нижних земель положена традиционная мифологическая оппозиция верха – низа, воплощаемая также в противостоянии гор и долины, широко использовавшемся в литературе романтизма и неоромантизма («Ру-ненберг» Л. Тика, «Потонувший колокол» Г. Гауптмана и др.). Верхние – горные земли связаны с магией, их жители обладают дарами – необыкновенными способностями, однако не используют их во благо и живут в бедности и невежестве. Мир Нижних земель практичен и полностью лишен волшебства, но имеет гораздо более развитую культуру и религию. В «Голосах» действие разворачивается в захваченном кочевниками-альдами городе Ансуле, расположенном на рубеже - на побережье пролива, напротив подножья горы Сул. В основе культуры Ансула лежат торговля и знания, тогда как для альдов важнейшим является фанатичное поклонение божеству. В «Прозрении» разворачивается целая галерея топосов - социальных моделей, с которыми сталкивается главный герой, преодолевая путь от рабства к свободе (рабовладельческая Этра, пещера отшельника Куги, город беглых рабов Барны, поселения обитателей болот и университетский Месун).
Ни один из представленных топосов не может быть охарактеризован как однозначно положительный или отрицательный, а традиционные образы и мотивы переосмысливаются. Так, пространство Верхних земель теряет характерную для верха связь с сакральностью и духовностью, представляя магию бездуховности и насилия. Традиционное восприятие солнца как символа жизни и разума в религии альдов трансформируется в агрессивный фанатизм и стремление уничтожить все иное, а загадочная тьма пещеры оракула не содержит никаких демонов, поскольку их создает лишь человеческое воображение. Разумное устройство просвещенного государства Этра, так же как и изначально базирующегося на идее справедливости лесного города Барны, оказывается лишь очередным воплощением насилия и несвободы.
Строя пространство произведения как столкновение этих амбивалентных, но в то же время противопоставленных друг другу пространств, У. Ле Гуин ставит своих героев в центр оппозиции. Оказавшись на границе, они вынуждены сделать выбор, определив свою принадлежность тому или иному топосу, что соотносится с лиминальной - пороговой, пограничной стадией в ритуальных обрядах перехода, исследовавшейся в работах А. ван Геннепа [3] и В. Тэрнера [15] и связанной со сменой идентичности, социального статуса или системы ценностей личности. Неустойчивость изначальной ситуации героев У. Ле Гуин воплощается как в их возрасте (подростки), так и в происхождении. Так, Оррек является сыном брантора одного из древних родов горцев и уроженки Нижних земель, жителей которых, не обладающих магическими способностями, горцы презрительно именуют каллюками. Мать Мемер - представительница древнего рода Ансула, к которому принадлежит и Лорд -хранитель, а отец - неизвестный альдский воин.
Гэвир - уроженец болот, раб, воспитывающийся с раннего детства в богатой семье Арков. Все это закладывает изначальную неоднозначность образов героев и их потенциальную способность выйти за рамки обычного уклада жизни и привычного взгляда на окружающее.
Герой не принадлежит однозначно к какому-либо социуму, хотя до определенного момента и причисляет себя к нему: Оррек воспринимает себя наследником семьи Каспро, владеющим даром разрушения связей, Мемер всей душой принадлежит семье своей матери, ненавидя альдских захватчиков, а Гэвир чувствует глубокую преданность и благодарность семье Арков. У. Ле Гуин создает ситуацию травмы, которая призвана показать ошибочность изначальной точки зрения персонажа и вынуждает его выйти за границы привычного существования. Сформировавшаяся картина мира героя оказывается ложной, а сетка социальных отношений - противоречащей внутренним потребностям личности, происходит процесс самоидентификации персонажа, ищущего ответ на вопрос, кто он и к какому обществу принадлежит. Оррек понимает, что не обладает фамильным даром; Грай принимает решение не использовать свои способности для убийства животных на охоте; Мемер открывает в себе дар слышать оракула; Гэвир, пережив предательство людей, которых считал своей семьей, покидает Аркамант. Происходит инициация, взросление главного героя, становящегося способным не только совершить решительный поступок, но и взять на себя ответственность за него.
РОЛЬ МАГИИ И ВОЛШЕБСТВА
В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ГЕРОЕВ
У. Ле Гуин значительно трансформирует канон фэнтези, и, хотя некоторые герои открывают в себе сверхъестественные способности, подлинная инициация связана отнюдь не с магией. Читатель понимает, что раньше описываемый мир функционировал по законам магии и волшебства, но в настоящее время в нем присутствуют лишь отголоски магического, неспособные существенным образом повлиять на развитие событий. В рассматриваемом цикле усиливается доля фантастического в том виде, как это понимал Ц. Тодоров, противопоставлявший фантастическое чудесному (миру волшебной сказки), где сверхъестественная природа происходящего не вызывает сомнений, и называвший базовыми чертами фантастического неоднозначность трактовки события, возможность одновременно мотивировать его сверхъестественными и реальными причинами [14]. Особенно ярко это проявляется в романе «Голоса», где кульминационный момент возрождения разрушенного фонтана и произнесения пророчества позже объясняется вполне реалистично. Следует также отметить, что одной из характеристик фантастического дискурса является, по мнению Ц. Тодорова, повествование от первого лица, и именно Я-нарративная стратегия используется в «Легендах Западного побережья».
Самодостаточный мир Западного побережья, построенный в соответствии с основными принципами «высокого» фэнтези, оказывается вместе с тем немагическим пространством, в котором появляются локусы фантастического. Выход за границу обыденного в сферу сверхъестественного становится обязательным для становления героя, но в то же время ожидаемое в рамках жанра обретение необычайных спо-собностей является ложным ходом на пути развития персонажа. Ожидания читателей обманываются, и оказывается, что сверхъестественные способности неоднозначно трактуются, являются бесполезными или вовсе отсутствуют у главных героев. Каждый из них находит свою сверхспособность, которая, однако, не связана с волшебством и магией, напротив, У. Ле Гуин переводит необычайное в символический план, показывая, что талант, скрытый в каждом человеке, и есть настоящее чудо и сверхсила.
На протяжении большей части романа «Проклятый дар» читатель подготавливается (с помощью истории слепого Каддара, рассказов о Ка-ноке, описания трудностей Оррека, конфликта с Огге Драммом и трагической смерти Меле) к тому, что в конце произведения главный герой обретет власть над своим даром, отомстит врагам и установит порядок в Верхних землях. Однако оказывается, что Оррек не обладает волшебным даром, и его способности находятся в рамках мира обыденного - это талант поэта, а становление героя связано с выходом не только за границы топоса Верхних земель, но и символически за границы чудесного. В то же время поэтическая деятельность Оррека также рубеж-на: она не принадлежит сфере волшебного, но и не является обыденной, и в следующих книгах показывается, как с ее помощью осуществляется поистине чудесное воздействие на людей и события (в «Голосах» Оррек силой своего слова практически бескровно разрешает конфликт между захватчиками и порабощенным народом; в «Прозрении» книга Оррека меняет судьбу другого героя - Гэвира).
В «Голосах» необычайное связано с образом погруженной во тьму пещеры оракула, где обладающие даром прорицания люди способны услышать пророчества, являющиеся ответом на животрепещущие вопросы. Символически тьма пещеры соотносится с человеческим подсознанием, хранящим то, что скрыто от разума. Героиня открывает в себе способности общения с оракулом, однако последующим событиям дается двойная мотивировка (также можно провести параллель с творчеством романтиков): смысл пророчества меняется в зависимости от воспринимающей личности. Сказанные Ме-мер слова люди слышат по-разному, чудесным образом возродившийся фонтан был просто починен, а сакральная книга оракула оказывается детской азбукой. Задачей героини становится не углубление в тьму пророчеств, а поиск точек соприкосновения между двумя народами ради сохранения мира и дальнейшего развития. Чудесное, иррациональное, ассоциирующееся с подсознанием, воплощается в образе пещеры оракула, тогда как рациональное, обыденное и осознанное - в доме и дворе Галваманда. Однако ни то, ни другое пространство не идеальны: город находится в запустении под гнетом захватчиков, но в то же время тьма пещеры безмолвна, пророчества неоднозначны, а способность общения с оракулом не зависит от воли человека. На границе этих противопоставленных топосов находится комната с библиотекой, являющаяся подлинным пространством силы для Мемер, обретающей функцию медиации, посредничества между мирами. Истинное призвание героини - не только изучение древнего наследия, но и передача знаний другим людям.
В «Прозрении» повествование строится на основе хронотопов дороги и чужого мира, а путь становления героя представлен в виде реального путешествия, во время которого происходит неоднократное преодоление как социальных, так и личных границ. Индивидуальная трагедия становится толчком к началу движения героя, в результате которого он выходит за рамки своей социальной роли (раб), затем поступательно проходит сквозь ограничения различных социальных моделей (общины беглых рабов, первобытная жизнь племен болот), а также расширяет границы собственных возможностей. Гэвир обладает двумя необычайными способностями: видеть картины будущего и запоминать различные тексты. У. Ле Гуин и здесь подводит своего героя к выбору в пользу жизненной стратегии, связанной с созиданием культуры, тогда как уводящая в иные миры способность прозревать будущее влечет за собой отказ от реальности. Истинной жизнью становится не мир чудесного, а мир текста, объединяющий как временные, так и пространственные пласты.
СПЕЦИФИКА ИНИЦИАЦИИ ГЕРОЕВ
В процессе становления героев важно двойное пересечение границы: сначала персонаж совершает уход из привычного мира (отказ от своей роли), а затем происходит его возвращение к людям, что соотносится со стадиями инициации и схемой путешествия мифологического героя, разработанной Дж. Кэмпбеллом [7]. Однако в «Легендах Западного побережья» возвращение трактуется метафорически, как трансляция полученных знаний и опыта другим людям, а не как возврат в исходную географическую точку или социум. Специфической чертой является также то, что герой так и остается в пограничном положении – между различными культурами и между миром реальности и текста, а его главной функцией становится постоянное преодоление границ: сначала как путь личностного становления, а затем – для созидания иного, гармоничного пространства.
Выход за границы привычного существования, осуществляемый героями под влиянием травматического опыта, представляет собой инициацию, в результате которой персонаж открывает в себе или осознает уникальные качества личности. Образы центральных персонажей показаны как характеры в развитии, наделенные различными, иногда противоречивыми чертами. Очередной шаг на пути становления героя является преодолением привычных границ и маркирован символическим действием, представляющим собой устранение преграды или преодоление рубежа, что соотносится с выделенным М. Бахтиным хронотопом порога, воплощающим момент жизненного перелома и преодоления кризиса [1]. Оррек, расставшись с иллюзией обладания фамильным даром, снимает с глаз повязку и видит глубокое звездное небо – тьма преграды / слепоты сменяется тьмой бесконечности космоса. Выбор социальной роли также обозначается преодолением рубежа: герой отказывается от своих прав на родовое поместье и покидает Верхние земли, отправляясь в странствия. Символически звучат слова Грай «Мы могли бы дойти даже до берега океана…»5 как преодоление ограничений ради выхода к бесконечности. Здесь следует отметить направление движения героев в сторону океана, традиционно символизирующего стихию неизвестного, «иного», а также западное направление, соответствующее пространственной модели Дж. Р. Р. Толкина (в которой Аман, или Заокраинный Запад, представляет собой пространство более высокоразвитой, чем Средне-земье, цивилизации) и осмыслявшееся У. Ле Гуин как альтернативный путь развития, пространство «другого», и в цикле о Земноморье.
Мемер переступает символический порог, вступая в тайную комнату, отправляясь в пещеру оракула и входя во дворец повелителя альдов. Выбор Мемер своего дальнейшего пути маркирован ее поступком, когда героиня выносит из тайной комнаты книгу стихов Регали, считавшуюся утерянной, стремясь не только к сохранению знаний, но к их приумножению. Гэвир Айтана также совершает ряд действий, связанных с преодолением очередного этапа его путешествия и символизирующих переход нового рубежа (используются традиционные мифологические мотивы: спуск в пещеру, переход через реку и др.). Это, в частности, уход из дома Арков (маркирован переходом через мост), бегство из города Барны, решение покинуть хижину Додора и, наконец, пересечение двух рек на пути в университетский Месун.
Однако в «Легендах Западного побережья» инициация ведет не к утверждению героя в данном социуме, а к получению им социальной функции медиации, которая соотносится с мифологическим образом поэта [13] и архетипом чтеца, получившим развитие в литературе постмодернизма (Г. В. Кучумова рассматривает образ чтеца в качестве характерной черты немецкоязычной литературы последней трети XX века)6.
Оррек и Грай связывают посредством поэтического искусства и науки Верхние и Нижние земли, играют центральную роль в восстановлении мира в Ансуле и в налаживании взаимодействия между бывшими захватчиками и рабами, осуществляют связь прошлого и настоящего посредством изучения древнего литературного наследия. Мемер играет значительную роль в организации взаимодействия между альдами и жителями Ансула, является проводником пророчеств оракула, то есть соединяет древнюю мудрость и книжную культуру с современностью (учит аританскому языку Оррека, чтобы он мог познакомиться с древними памятниками на этом языке). Гэвир транслирует знания, полученные им в Этре, жителям тех пространств, в которых оказывается во время своего путешествия. Пройдя путь личностного становления и обретя новую социальную и культурную функцию, герои создают и новую общность, соотнесенную с топосом университетского города Месуна – пространства свободы, созидания, многогранности и единомыслия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, личностное становление героев «Легенд Западного побережья», находящееся в центре внимания У. Ле Гуин, происходит посредством преодоления ими различных границ: собственного сознания, общественных стандартов, социальных ролей, культурных и религиозных традиций и т. д. В результате инициации главные герои обретают функцию медиации – становятся проводниками между различными обществами и культурами, прошлым и настоящим (через сохранение культурной памяти), реальным и текстовым пространствами.
Список литературы Преодоление границы как способ инициации героев цикла «Легенды западного побережья» Урсулы Ле Гуин
- Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит., 1975. С. 234-407.
- Воглер К. Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. М.: Альпина нон-фикшн, 2017. 476 с.
- Геннеп А ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. 198 с.
- Ковтун Е. Н. Поэтика необычайного: Художественные миры фантастики, волшебной сказки, утопии, притчи и мифа (На материале европейской литературы первой половины ХХ века). М.: Изд-во МГУ, 1999. 308 с.
- Ковтун Е. Н. Художественный вымысел в литературе XX века. М.: Высш. шк., 2008. 408 с.
- Кострова О. А. Пространственно-временная организация художественного мира в произведениях Дж. К. Роулинг [Электронный ресурс]. Режим доступа https://docplayer.com/26005108-0-a-kostrova-prostranstvenno-vremennaya-organizaciya-hudozhestvennogo-mira-v-proizvedeniyah-dzh-k-rouling.html (дата обращения 20.08.2021).
- Кэмпбелл Д. Тысячеликий герой. СПб.: Питер, 2016. 347 с.
- Мёрдок М. Путешествие Героини. М.: Клуб Касталия, 2018. 240 с.
- Наумчик О. С. Миромоделирующие функции игры в художественной системе английского фэнтези: Монография. Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2020. 321 с.
- Наумчик О. С. Пространственно-временные модели фэнтези // Парадигмы переходности и образы фантастического мира в художественном пространстве Х1Х-ХХ1 вв.: Коллективная монография. Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Лобачевского, 2019. С. 356-362.
- Пропп В . Исторические корни волшебной сказки. СПб.: Азбука; М.: Азбука-Аттикус, 2020. 544 с.
- Рымарь Н . Т. Поэтика границы в литературе: эстетические и поэтологические аспекты границы как феномена художественного языка. Siedlce, 2016. 334 с.
- Суркова К. В. Мифологические истоки образа поэта в цикле «Легенды Западного побережья» Урсулы Ле Гуин // Парадигмы культурной памяти и константы национальной идентичности: Коллективная монография. Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2020. С. 243-251.
- Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу / Пер. с фр. Бориса Нарумова. М.: Дом интеллект. кн., 1999. 144 с.
- Тэрнер В . Символ и ритуал: Пер. с англ. М.: Наука, 1983. 277 с.
- Чигиринская О. А. Фантастика: выбор жанра, выбор хронотопа [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.rusf.ru/star/doklad/2008/chigr.htm (дата обращения 11.08.2021).
- Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения: Пер. с фр. СПб.: Университетская книга, 1999. 356 с.