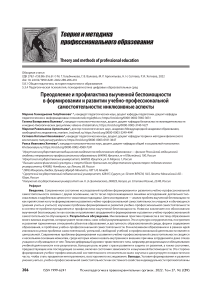Преодоление и профилактика выученной беспомощности в формировании и развитии учебно-профессиональной самостоятельности: инклюзивные аспекты
Автор: Марина Геннадьевна Голубчикова, Галина Валерьевна Валеева, Мариям Равильевна Арпентьева, Сетяева Наталья Николаевна, Раиса Ивановна Хотеева
Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd
Рубрика: Теория и методика профессионального образования
Статья в выпуске: 2 (89), 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение. Современное состояние исследований проблем формирования и развития учебно-профессиональной самостоятельности связано с двумя основными, часто тесно пересекающимися линиями исследования: деятельностно- смысловым и зарубежным ценностно-смысловым подходами. Цели исследования — анализ проблем выученной беспомощности как препятствия на пути формирования и развития учебно-профессиональной самостоятельности учащихся и обучающихся (умения учить и учиться); изучение проблемы формирования и развития учебно-профессиональной самостоятельности в контексте проблем преодоления и профилактики выученной беспомощности. Новизна заключается в обосновании выученной беспомощности как основы и проявления затруднений в формировании и развитии учебно-профессиональной самостоятельности обучающихся. Результаты и обсуждение. Инклюзивная практика привнесла в систему образования много важных акцентов, которые ранее полагались само собой разумеющимися. Это и культура сотрудничества, построения и развития гармоничных отношений субъектов образования, и доступность образовательной среды, форм и содержания образования, и проблема учебно-профессиональной самостоятельности. В инклюзивном образовании и в рамках идей инклюзии в целом проблема самостоятельной, успешной, свободной учебной и профессиональной деятельности является центральной. Современные проблемы формирования и развития учебно-профессиональной самостоятельности сводятся к нескольким основным моментам, среди которых можно назвать внутренние и внешние причины затруднений и даже отказа учащихся и обучающихся от нее. Помимо деформаций духовно-нравственного типа, например десакрализации и обесценивания учебной деятельности и ее результатов, большую роль играют страхи развития и защиты от развития, а также состояния, предшествующие или последующие за ними, включая состояния зависимости и выученной беспомощности. Эта сторона формирования учебно-профессиональной состоятельности относительно мало изучена и дискутируется недостаточно часто, чтобы стать предметом интегративного, всестороннего исследования. Выводы. Условия формирования и развития умения учиться, учебно-профессиональной самостоятельности как системного свойства индивидуальности противоположны условиям формирования выученной беспомощности: умение учиться есть комплекс знаний и умений в сфере бытия человека как личности, партнера, ученика и профессионала, включающий рефлексивный поиск, диалогический обмен его результатами со значимыми для человека людьми по поводу значимых, проблемных для него или общечеловеческого бытия ситуаций. Для инклюзивной практики такие условия — необходимый залог успеха.
Выученная беспомощность, поисковая активность, учебно-профессиональная самостоятельность, учебная автономность, поисковая активность, учебная мотивация, рефлексия, метапознание, развитие человека
Короткий адрес: https://sciup.org/149139692
IDR: 149139692 | УДК: 378.1+159.98+316.61 | DOI: 10.24412/1999-6241-2022-289-206-216
Текст научной статьи Преодоление и профилактика выученной беспомощности в формировании и развитии учебно-профессиональной самостоятельности: инклюзивные аспекты
Marina G. Golubchikova1, 2, Candidate of sciences (in Pedagogy), Associate-Professor, Associate-Professor at the chair of Pedagogy, Associate-Professor at the chair of Pedagogical and Information Technologies; ; Galina V. Valeeva 3, Candidate of sciences (in Psychology), Associate-Professor, Associate-Professor at the chair of Life Safety and Biomedical Disciplines; ;
Mariam R. Arpentieva 4, Doctor of sciences (in Psychology), Academician of the International Academy of Education, freelance researcher; ;
Natalia N. Setyaeva 5, Candidate of sciences (in Pedagogy), Associate-Professor, Associate-Professor at the chair of Theory and Methods of Physical Education; ;
Raisa I. Khoteeva 6, Candidate of sciences (in Psychology), Associate-Professor, Associate-Professor at the chair of General and Social Psychology; ; 0000-0002-4580-7241
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Инклюзивная практика привнесла в систему образования много важных акцентов, которые ранее полагались само собой разумеющимися. Это и культура сотрудничества, построения и развития гармоничных отношений субъектов образования, и доступность образовательной среды, форм и содержаний образования, и проблема учебно-профессиональной самостоятельности. В инклюзивном образовании и в рамках идей инклюзии в целом проблема самостоятельной, успешной, свободной учебной и профессиональной деятельности является центральной. Современные проблемы формирования и развития учебно-профессиональной самостоятельности сводятся к нескольким основным моментам, среди которых можно назвать внутренние и внешние причины затруднений и даже отказа учащихся и обучающихся от нее. Помимо деформаций духовно-нравственного типа, например десакрализации и обесценивания учебной деятельности и ее результатов, большую роль играют страхи развития и защиты от развития, а также состояния, предшествующие или последующие за ними, включая состояния зависимости и выученной беспомощности [1–7]. Эта сторона формирования учебно-профессиональной состоятельности относительно мало изучена и дискутируется недостаточно часто, чтобы стать предметом интегративного, всестороннего исследования. В нашей работе мы попытаемся сделать еще один шаг навстречу осуществлению такого рода исследований.
Цель — изучить проблему формирования и развития умений учиться и учить в контексте проблем преодоления и профилактики выученной беспомощности, включая контекст инклюзивного образования. Основной метод исследования — теоретический анализ проблем выученной беспомощности как препятствия на пути формирования и развития умения учить и умения учиться, учебно-профессиональной самостоятельности находящихся в дидактическом взаимодействии педагогов, учащихся и обучающихся.
Новизна исследования заключается в попытке теоретического осмысления выученной беспомощности как ведущего фактора и типичного проявления затруднений в формировании и развитии учебно-профессиональной самостоятельности обучающихся (студентов) и обучающих, значимости и путей преодоления и профилактики выученной беспомощности в формировании и развитии учебно-профессиональной самостоятельности.
Результаты и обсуждение
Зарубежные и отечественные подходы к пониманию учебно-профессиональной самостоятельности. Современные отечественные и зарубежные исследователи по-разному трактуют учебную и учебнопрофессиональную самостоятельность как в общем, так и в инклюзивном образовании.
В отечественной науке и практике ее обычно рассматривают как интегративное качество целостного человека [1–5], так же как и в ХХ в.: как умение и стремление ученика к познанию (И. Я. Лернер, 1971), как интеллектуальную способность (М. И. Махмутов, 1975), как активную умственную деятельность (П. И. Пидкасистый, 1980), а также в начале нынешнего века: как учебно-профессиональную автономию обучающегося (Н. Ф. Коряковцева, 2002), как умение учиться (Н. П. Ничипоренко, 2002) и др. [7–10]. Н. Ф. Виноградова видит в учебной самостоятельности умение ставить перед собой различные учебные задачи и решать их без побуждения извне, наличие потребности учения, учебно-профессиональной инициативы и самоконтроля [11; 12]. Проблематика самостоятельности как автономии учеников и педагогов сближает отечественные и зарубежные штудии.
В целом современные исследования формирования и развития учебно-профессиональной самостоятельности связаны с двумя основными, часто тесно пересекающимися линиями исследования: отечественным деятельностно-смысловым и зарубежным ценностносмысловым подходами.
В отечественной психологии часто обращаются к исследованиям в рамках развивающего обучения. Еще Д. Б. Эльконин и В. В. Давыдов полагали, что самостоятельность, инициативность учеников в постановке новых задач, способность и склонность к преобразованию сложившихся способов действия можно и нужно развивать уже в рамках школьного образования [13, с. 69]. Они считали важным развивать рефлексивные умения и критическое отношение к процессу своей учебнопрофессиональной деятельности и полученным в ходе нее результатам, способность выделять неизвестное и строить гипотезы о нем, преобразовывать существующие способы действия и искать новые способы при решении разных типов задач. В состав «умения учиться», наряду с рефлексивными, входят продуктивные действия — поиск и производство знаний и умений, развитая поисково-творческая активность [13, с. 27].
Зарубежные и отечественные ученые, включая П. Кэнди, Т. Хеджа, П. В. Меньшикова, Н. П. Ничипоренко, также предполагают, что автономный учащийся не просто тот, кто имеет знания, умения, мотивы и ценности, дающие возможность управлять своим собственным обучением, но тот, кто способен выполнять действия, связанные с этими компетенциями и отношениями [6; 7; 14; 15]. Ученые отмечают, что опережающее развитие когнитивной автономии, обусловленное переходом к учебно-профессиональной деятельности с элементами самообразования, составляет основу формирования поведенческой и ценностной автономии [5; 6; 16–20]. Н. Ф. Коряковцевой сформировано понятие учебнопрофессиональной автономии как «способности… осознанно осуществлять продуктивную образовательную деятельность, направленную на создание личностного образовательного продукта, рефлексировать и оценивать данную деятельность, накапливая эффективный опыт, конструктивно и творчески взаимодействовать с образовательной средой и субъектами образовательной деятельности, принимая на себя ответственность за процесс и продукт данной деятельности как результат самоопределения и саморазвития личности» [21]. Учебная автономия, согласно К. С. Лебедевой, важнейший, системообразующий компонент образовательной самостоятельности [22, с. 378].
-
Х . Рейндерс утверждает, что определение автономии либо как способности, либо как участия в конкретном виде обучения является неполным, она и то и другое [23]. Разработчики теории автономного обучения иностранным языкам, берущей начало в исследованиях свободы обучения К. Роджерса, полагают нужным развивать свободу человека путем совершенствования тех его способностей, которые дают возможность ответственно управлять своей деятельностью, быть способным к автономному обучению, управлять им: ставить перед собой цели, обучаться и проводить оценку своей деятельности [24–30]. Х. Холек, как и его последователи (Д. Литтл, Дж. Трим, Л. Мариани, Ф. Бенсон, А. Пенникук и др.), описывает учебно-профессиональную автономию как «способность брать на себя ответственность за свою учебно-профессиональную деятельность относительно всех аспектов этой учебной деятельности», способность к критической рефлексии, принятию решений и совершению самостоятельных поступков, самоуправлению и контролю собственной деятельности [31; 32]. При этом они полагали, что индивидуальная автономия может трансформироваться и проявляться во внеучебных контекстах относительно независимо от учебно-профессиональной среды. Поэтому она может быть как положительной/продуктивной, так и отрица-тельной/деструктивной. Д. Дикинсон и ряд исследователей это понятие рассматривают как ответственность за принятие и осуществление решений, касающихся дальнейшего обучения студента [33, с. 145]. Интересно
также определение учебно-профессиональной автономии как формы деятельности, ситуации, когда обучающиеся проводят исследование самостоятельно, рассмотрение автономии как возможности или права на выбор учащимися своего направления обучения [34]. Многие исследователи пишут о первостепенной роли в учебной автономии самого ученика, являющегося более или менее активным субъектом в собственном процессе обучения и извлекающего смысл из событий [14, p. 271]. Ученик является принимающим (активно) или отвергающим (пассивно) трансляцию ответственности педагогом и/или «перенос» ответственности за образование с учителя на обучающегося. В рамках автономной модели образования ученику нужно научиться быть самостоятельным, а учителю, как и родителям, — уметь «отпускать ситуацию» и даже, более того, создавать ситуацию, в которой ученик вынужден действовать самостоятельно [35; 36]. Это связано с тем, что одним из определяющих самостоятельность аспектов обретения автономности и независимости в образовании является образовательный опыт [14, p. 115]. Пока человек не имеет опыта самостоятельности, условий для получения опыта, включая определенное ограничение активности педагога, самостоятельность невозможна.
Особенно важен здесь тезис Д. Б. Эльконина об учебной деятельности как деятельности по самоиз-менению [37]. При этом Д. Б. Эльконин и В. В. Давыдов подчеркивали важность рефлексивности — готовности и способности обучающегося не просто решать учебнопрофессиональные задачи, но и осознавать способы, процессы и результаты своих действий, их ценностные и целевые основы и границы применимости используемых способов, критично относиться к своим действиям и полученным в их итоге результатам. Обучение, которое превращает способность и готовность к рефлексии в норму развития (что возможно, но не всегда существует уже в младшем школьном возрасте), выступает как учебная деятельность [37]. При этом ведущим условием формирования и развития рефлексивности выступают разработка и применение моделей, построенных по определенной логике, в знаковой и/или схематической форме представляющих важнейшие отношения понятий и феноменов. Помимо моделирования, другие условия включают:
-
— создание (проблемных) учебно-профессиональных ситуаций, предполагающих обнаружение и преобразование понятий и связанных с ними способов действия;
-
— использование детьми, подростками, другими обучающимися моделей для того, чтобы (само)оцени-вать и контролировать свои действия, преобразуя себя и модели, делегирование педагогом ответственности за оценку и контроль поиска ученикам;
-
— учебно-дидактический диалог как совместная работа обучающихся, участники которой обмениваются своими предположениями, знаниями и умениями, учат-
- ся слушать, ценить и учитывать в своей деятельности мнения и оценки партнеров;
-
— систему контроля/оценки, стимулирующую поиск и уважение к точке зрения другого человека как к ценности, инициативный поиск обучающегося поддерживается педагогом или даже намеренно провоцируется им;
-
— сочетание репродуктивных и активных компонентов деятельности: тренировки (действий по образцу) и активности в режиме свободного выбора (выбор действия) на занятиях в аудитории и вне нее, вне «официальной» образовательной ситуации.
Проблемы формирования и развития самостоятельности в контексте феномена выученной беспомощности. Анализ этих условий можно увидеть в трудах как отечественных исследователей [5; 6; 37], работающих в контексте развития деятельностного подхода, так и зарубежных, обобщающих результаты эмпирических разработок своих коллег [38]. В этих исследованиях видны попытки осмысления важности, направлений преодоления и профилактики выученной беспомощности как феномена, оказывающего негативное влияние на процессы и результаты формирования и развития учебно-профессиональной самостоятельности, в частности на поисковую и творческую активность школьников и учителей, студентов и преподавателей.
Важно отметить, что поисковая активность, феномен ориентировочной деятельности [39], выступает как понятие в процессе анализа феноменов психического развития в онтогенезе. Поэтому поисковая активность — один из критериев развития в целом и развития самостоятельности в частности. Умение активного преодоления трудностей, стремление к нему, оптимизм как продуктивное проектирование успеха и поисковое поведение увеличивают сопротивляемость человека к неудачам, общую успешность/результативность труда. Легко достижимый успех, «тепличное» обучение и воспитание разрушают сопротивляемость. Атрибуция успехов личностными особенностями и неудач ситуативными влияниями повышает самооценку, уровень притязаний и успешность. В противном случае, когда человек полагает, что его неудачи «нормальны» и связаны с его не поддающимися исправлению недостатками, когда он верит, что не имеет права ошибаться и быть несовершенным, не обладает опытом побед и преодоления трудностей, не берет на себя ответственности и не ищет нужной ему помощи, новых путей и стратегий достижения цели, новых смыслов и значений ситуации, то он обычно капитулирует перед трудностями [40] и перестает интересоваться миром.
Напротив, поисковая активность в своей развитой форме сочетается с умением и стремлением учитывать чужую точку зрения, искать новые смыслы и значения. Это проявляется и у учеников-исследователей, увлечен- ных творческим омыслением себя и мира, и у «эмпа-тичных» учеников, стремящихся понять окружающих людей. В процессе совместной учебно-профессиональной деятельности (взаимно-активного, интерпсихического поиска, требующего оперативной и постоянной координации намерений партнеров) обе группы учеников развивают стремление к поиску (в том числе интра-психическому), повышают ценность собственных и чужих учебных усилий и мнений, состояний. Напротив, гедонисты-эгоцентрики обычно характеризуются и низкой поисковой активностью (неразвитым стремлением к творчеству), и эмпатией. У них заметно отставание в формировании и развитии поисковой активности. У учеников с поисковой активностью вначале формируется интерпсихическая форма поисковой активности (младший школьник), затем через экстрапсихический этап интрапсихическая форма (старший школьник, студент) [37; 40 и др.].
-
1. Уже в младшем школьном возрасте человек способен психологически включаться в недоопределенную задачу, поставленную наставником, видеть противоречия между знанием в привычной схеме и новыми данными; осуществлять поиск новых способов действия, по собственной инициативе расширять возможности действия по схеме, менять точку зрения, учитывая мнения оппонентов, искать доказательства и основания мнения с опорой на схему, включающую в себя ориентировочную основу действия, выходить за границы известного и строить гипотезы о теоретически возможных событиях и явлениях. Складываются первичные предметные ориентации [41].
-
2. В подростковом возрасте в современной школе большое внимание уделяется способности учеников осуществлять выбор разных образовательных (вну-трипредметных и межпредметных) траекторий. Здесь идет переход от учебной к учебно-профессиональной самостоятельности: созревают в осознанном виде предметные ориентации, могут осуществляться первичная профессиональная ориентация, выбор профессиональной сферы самоактуализации (осуществления внутренней сути, интринсивной мотивации, трансценденции) и самореализации (осознание себя как члена социума, экстринсивной мотивации, построение семейной, профессиональной и иных «карьер») либо отказ от одной из них или от обеих (трансгрессия, деформация).
-
3. К концу школы часть учеников может проявлять учебную самостоятельность как независимость, инициативность, стремление и умение обходиться без помощи: независимость поискового поведения от деятельности педагога по организации поиска, стремление и умение рассматривать все с различных точек зрения, использование понятийных средств учебной деятельности в жизненных, внешкольных и внеучебных ситуациях. Последний момент особенно важен для учебнопрофессиональной самостоятельности: инициативность,
свобода и умение без помощи других использовать профессиональные знания и умения в практике решения (квази)профессиональных задач.
Ключ к развивающему обучению, преодолению привычного, рутинного, «равновесного» состояния (согласно Л. С. Выготскому и Д. Б. Эльконину) и восстановлению равновесия (согласно Ж. Пиаже), к гармоничному сочетанию опережающего и «запаздывающего» в обучении — «совместный поиск способов действия, общих и для класса задач, и для класса как учебного сообщества детей» [37, с. 88]. В этом контексте умение учиться, или учебная самостоятельность, связано с установкой ученика на поисковую активность, которая специально культивируется педагогом и обозначает способность и готовность: 1) обнаруживать, каких именно знаний и умений человеку недостаточно для решения конкретной задачи или системы (учебно-профессиональных и иных) задач; 2) находить и присваивать недостающие знания и умения. В этом контексте умение учиться связано не только с рефлексией, но и со стремлением выходить за границы наличного опыта, трансценденцией.
Поисковая активность нацелена на апробацию новых способов действия с отслеживанием результатов каждого способа: в ней соединены способность преодолевать свою ограниченность, выходя за пределы имеющегося опыта (трансцендировать), и способность действовать, осознавая суть действия (рефлексировать). Нацеленность на поиск способствует развитию рефлексии. Иногда имеет значение и метод «проб и ошибок», или стратегия «хаотической» активности, при которой происходит апробация различных способов действий без анализа их последствий. Она достаточно часто спонтанно возникает в рамках репродуктивного обучения, но в рамках рефлексивного — угасает. В целом спонтанная поисковая активность полезна, но часто не настолько стабильна, чтобы повышать успешность учебно-профессиональной активности человека [42]. Один из феноменов, который блокирует поисковую активность, связан с повседневной травматизацией человека в решении задач, на которые у него не хватает внешних и внутренних ресурсов.
Поэтому самостоятельности и автономности в зарубежной и отечественной науке противопоставляется не просто нежелание, а неспособность, неумение учиться: учебная или выученная беспомощность (learned helplessness), зависимость/иждивенчество/пассивность и маргинальность/незрелость/инфантильность. Выученная беспомощность активно изучается уже более 30 лет [43]. Ж. Нюттен раскрывает фрустрацию, возникающую в итоге множественных бесплодных попыток найти решение в неразрешимой задаче, как итог конфликта внутренних и внешних «барьеров решения». Он понимает фрустрацию как травму неспособности действовать самостоятельно и успешно. К ее внутренним условиям относятся психологические характеристики ученика, включая его умения/неумения, «самоподдерживаемые»
установки, обеспечивающие состояние внутреннего соответствия и внешней гармонии, а также особенности решаемой задачи. К ее внешним условиям относятся барьеры, не дающие человеку выйти из ситуации решения и из «замкнутого круга» таких решений в целом (система или компоненты системы социальных отношений между обучающимся и сообществом) [44, с. 7]. Страх действия связан с мотивацией успеха и неудачи, и он имеет несколько форм: псевдоактивности (бессмысленная суета, имитирующая поиск решения), ступора, или отказа от деятельности, уныния (капитуляция, потеря интереса и понимания, заторможенность и апатия), стереотипии, агрессивно-деструктивных способов поведения (открытое или латентное (само)агрессивное поведение), «бегства из ситуации» для смещения/замещения и преследования псевдоцелей (подмена смысла деятельности/выгорание и актуализация иной деятельности, создающей иллюзию результативности), «инверсии» деятельности и отношений к ней, к себе, к миру [44, с. 9].
В целом состояние выученной беспомощности связано с фрустрацией и пассивностью, неверием в собственные силы и ощущением неполноценности/превосходства, с потерей ощущения свободы и управления, состоянием недовольства собой и миром, «неукоренненностью» в мире и присутствующим «тупым непониманием» («тупо делаю»), скукой лишения поисковой активности (однообразия, шаблонности, невозможности перемен) и депривацией активности отношений (состояния неадекватности и неопределенности, отчужденности и дисгармонии, однообразия и асинхронности причин и последствий поведения или деятельности, отсутствие и/или обесценивание обратной связи и тем более поддержки). Как отмечают исследователи, для выученной беспомощности типично состояние постоянного напряжения (смеси страха, гнева и пассивности), а также «смещенной активности», или, точнее, замещающей активности: формы активности, создающие иллюзию свободы, инициативности, удовлетворенности.
Оно также связано с латентно-пассивной агрессией, пассивным сопротивлением, страхом перемен, деформацией учебно-профессиональных мотивов (утрата мотива достижения успеха и преобладание мотива избегания неудач, смещение интринсивной, внутренней мотивации на экстринсивную, внешнюю, выгорание и деформации) [5; 6; 45; 46]. Наличие интринсивной мотивации (субъектность) отличает самостоятельных обучающихся от несамостоятельных (потерявших или не обретших субъектности, руководимых экстринсивной мотивацией).
Выученная беспомощность связана с несколькими моментами: затруднениями в постановке и достижении собственных целей и удержании намерения и интереса, апатией («все равно», «неинтересно», «усталость»); затруднениями в проявлении инициативы как инициирования и осуществления активности (синдром «потом», прокрастинация, лень); ощущени- ем непреодолимости препятствий («все бесполезно») и/или ожиданием «легкости» учебного и профессионального труда (они якобы «должны приносить (только) радость»); невысокими требованиями к себе как к типу «человек-неудачник», «неполноценный» или, напротив, «и так успешный» и т. д. («слишком трудно») [40; 45; 46].
М. Селигман и О. Волкова также отмечают роль опыта пребывания и наблюдения беспомощных людей, взаимодействия с ними. Аналогичные замечания сделаны исследователями опыта концлагерей, трудовых лагерей и лагерей биологических экспериментов (В. Франкл, А. Кемпински, Б. Беттельгейм и др.) [43; 47; 48].
Поскольку беспомощность прямо связана с неудачей и неуспешностью труда, постольку в работах по этой проблематике часто рассматривается влияние выученной беспомощности на академические успехи (М. Р. Ар-пентьева, Г. П. Геранюшкина, К. Е. Джонсон, К. ДеМосс, Д. Циринг, Т. А. Панченко и др.), на формирование и развитие умения учиться, а также преодоление беспомощности в рамках различных жизненных событий, способы профилактики и коррекции выученной беспомощности (Л. Абрамсон, Е. В. Веденеева, А. Ю. Дубынин, С. Майер, М. В. Полякова, К. С. Рапс, М. Селигман, Д. Циринг, М. Эриксон и др.), изучаются половозрастные и иные особенности выученной беспомощности (М. Селигман, Д. Джиргус, С. Палеха и др.) [43; 45; 49, с. 19].
В работах отечественных психологов раскрываются аспекты, позволяющие рассматривать выученную беспомощность как своего рода психологический барьер конструктивного и эффективного профессионального, межличностного и личностного развития человека, учебно-профессиональной самостоятельности в контексте управления учебной деятельностью и учебным стрессом [44; 45; 48; 50–52]. Человек, стремящийся к трансформации через учебно-профессиональные знания и умения, в решающий момент может ретироваться, отказаться от успеха. Такое состояние А. Минделл называет «край», А. Маслоу и К. Роджерс — «защитой/блокадой от развития». И. Ялом обозначает этот феномен как «уровень (внутренней) тайны», а П. Жане — как «страх действия», «кульминацию всего пути, который прошел индивид, борясь с вредоносными стимулами и будучи побежден ими» [44, с. 6–7 и др.]. Это та «болезненная кнопка», «нажимая» на которую можно манипулировать человеком. Она часто используется обществом, бизнесом или государством для достижения их целей, противоположных целям самого человека. Здесь отменяются ориентация на внутренние законы (само)развития, осознанная, целостная самодетерминация и самоуправление. При этом включается «чужой закон», начиная от «морали» и заканчивая «правом», неосознаваемое, фрагментарное («лоскутное»), противоречивое управление человеком извне. Там, где «чужое» отменяет «свое», пусть даже это «чужое» есть лучшее из возможных, заканчивается самостоятельность человека [45, с. 173].
Выученная беспомощность побуждает и учеников, и педагогов к защитно-компенсаторным формам поведения, ведущим к деформациям их деятельности и взаимоотношениям (матетогениям и педиогениям), а затем и более глубоким деформациям личности, партнерства и учебно-профессиональной идентичности и активности в целом [5; 6]. «Движение по кругу» беспомощности (от беспомощности к «запланированной» неудаче и снижению самооценки и назад) сопровождается учебно-профессиональным, межличностным и личностным регрессом. Выход из этого состояния «по кругу» неспособности и несвободы предложен М. Эриксоном — с помощью техники «обучающих историй». «Обучающие истории реализуют алгоритм вывода из состояний стресса» [45, с. 169]. Согласно М. Эриксону, «первым делом нужно сбить его (обучающегося. — Авт .) с толку. А затем, пока он еще не пришел в себя, провести через препятствие и, таким образом, дать человеку на деле пережить успех» [53, с. 120; 45, с. 169]. Здесь фокусом внимания являются внутренняя, а не внешняя мотивация учебы и труда [54], субъективизация (активизация) деятельности.
В инклюзивном контексте особенно важны следующие моменты учебно-профессиональной самостоятельности:
-
1) самостоятельность как независимость, автономия ученика с особенностями возможностей здоровья означает, что он готов и стремится без посторонней помощи выполнять учебные задания, выбирать и реализовывать формы, содержания и маршруты образования;
-
2) самостоятельность как свобода ученика означает, что он преодолевает сложности, успешно компенсирует ограничивающие его учебно-профессиональную деятельность особенности;
-
3) самостоятельность как выученный оптимизм означает готовность и стремление к поиску и творчеству знаний и умений, образовательных отношений и взаимодействий, самого себя.
Выводы
Важность феномена выученной беспомощности, его проявлений и влияний на процессы и результаты формирования и развития учебно-профессиональной самостоятельности, в частности на поисковую и творческую активность школьников и учителей, студентов и преподавателей, очевидна не только в инклюзивной, но и в общей практике. Порой человек не может измениться или достичь успеха именно потому, что научен неуспеху и/или страху успеха и связанного с успехом наказания. Это свойственно для любых ограничений способностей и жизни, включая инвалидизацию. В итоге выученной беспомощности часто возникает феномен «защиты от развития», или «комплекс Ионы», описанный еще А. Маслоу. Этот комплекс характеризует состояние сознательного или неосознаваемого избегания поисковой, творческой активности, инициативы и самостоятельности в разных сферах жизнедеятельности. В поисках направлений преодоления и профилактики выученной беспомощности как феномена, оказывающего существенное и негативное влияние на процессы и результаты обучения и воспитания, необходимо учитывать механизм его формирования и преодоления. Для лиц с особенностями возможностей здоровья этот вопрос является краеугольным, иногда более важным, чем гармоничные отношения в образовательной среде.
Это связано с тем, что, на наш взгляд, депривация индивидуального («своего») пространства и времени, поиска и выбора сферы деятельности, компетенций и отношений к себе и миру является ведущим аспектом формирования учебно-профессиональной и общей беспомощности человека, ученика или педагога. Ею создаются условия для формирования и усиления учебной, личностной, межличностной инфантильности, пассивной и активной агрессии, утраты собственных целей и ценностей (десакрализация и аномия), а также интересов. Беспомощность связана с дефицитом жиз-неутверждения и оптимизма, отсутствием готовности и способности к ответственности, к совершению выбора (ценностей и целей, времени и пространства учебнопрофессиональной деятельности, направлений поиска и проектирования образовательного процесса, оценки и рефлексии его результатов, а также результатов образования в целом и т. д.) и принятию решений о себе, своей деятельности, своих взаимоотношениях. Противоположные обстоятельства создают условия формирования и развития умения учиться, учебно-профессиональной самостоятельности. Последняя выступает как системное свойство индивидуальности: умение учиться есть комплекс знаний и умений в сфере бытия человека как личности, партнера, ученика и профессионала, включающий рефлексивный поиск, диалогический обмен его результатами важными для человека людьми по поводу значимых, проблемных для него или общечеловеческого бытия ситуаций. В ситуации с «компетентным учеником», в качестве которого выступает и педагог, речь идет и об умении учить: побуждать обучающихся к исследованию внутреннего и внешнего мира. Для инклюзивной практики такое побуждение — одна из центральных задач и условий успеха.
Перспективы исследования связаны с разработкой программ сопровождения образовательного процесса в школах и вузах, направленных на профилактику и преодоление беспомощности и на развитие самостоятельности школьников и студентов как будущих специалистов.
Список литературы Преодоление и профилактика выученной беспомощности в формировании и развитии учебно-профессиональной самостоятельности: инклюзивные аспекты
- Голубчикова М. Г. Теоретический анализ понятия «самостоятельность» в историческом и современном аспектах // Мир науки, культуры, образования. 2020. № 1(80). С. 35–37.
- Голубчикова М. Г., Голубчиков Г. М., Федотова Е. Л. Формирование регулятивных универсальных учебных действий школьников — основа развития самостоятельности личности // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2020. Т. 14, № 4. С. 91–99.
- Коломиец О. М. Развитие учебно-профессиональной самостоятельности студента высшей медицинской школы в преподавательской деятельности педагога // Педагогика: история, перспективы. 2020. Т. 3, № 3. С. 19–33.
- Коломиец О. М., Голубчикова М. Г. Концептуальные положения развития учебной самостоятельности студентов в образовательном процессе // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 1(74). С. 306–308.
- Арпентьева М. Р., Гасанова Р. Р. Умения учиться и умение учить в контексте разработки и реализации индивидуальной образовательной траектории // Обучение и воспитание детей и подростков: от теории к практике : коллективная монография / отв. ред. А. Ю. Нагорнова. Ульяновск, 2020. С. 6–21.
- Арпентьева М. Р., Меньшиков П. В. Дидактическая коммуникация: умение учиться и умение учить / под ред. М. Р. Арпентьевой. Калуга, 2017. 353 с.
- Ничипоренко Н. П. Развитие представлений студентов-педагогов об умении учиться : дис. ... канд. психол. наук. Калуга, 2000. 190 с.
- Махмутов М. И. Проблемное обучение. М., 1975. 367 с.
- Пидкасистый П. И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. М., 1980. 240 с.
- Коряковцева Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы учащихся, изучающих иностранный язык. М., 2002. 176 с.
- Виноградова Н. Ф. Материалы курса «Окружающий мир» как учебный предмет в начальной школе: особенности, возможности, методические подходы. М., 2008. 72 с.
- Рыдзе О. А. Развитие самостоятельности младшего школьника в учебной деятельности : дис. ... канд. пед. наук. М., 2002. 189 с.
- Цукерман Г. А. От умения сотрудничать к умению учить себя // Психологическая наука и образование. 1996. № 2. С. 27–42.
- Candy P. C. Self-direction for Lifelong Learning. California, 1991. 271 p.
- Hedge T. Teaching and learning in the language classroom. Oxford, 2000. 420 p.
- Поскребышева Н. Н., Карабанова О. А. Исследование личностной автономии подростка в контексте социальной ситуации развития // Национальный психологический журнал. 2014. № 4(16). С. 34–41.
- Панченко Т. А., Долгих Н. П. Организация самостоятельной работы студентов в условиях выученной беспомощности // Проблемы высшего образования. 2016. № 1. С. 231–233.
- Deci E. L., Ryan R. M. Handbook of Self-Determination Research. N.-Y., 2004. 470 с.
- Steinberg L., Silverberg S. B. The Vicissitudes of Autonomy in Early Adolescence. Child Development. 1986. Vol. 57. Pр. 841–851.
- Zimmer-Gembeck M. J., Collins W. A. Autonomy Development during Adolescence. Blackwell handbook of adolescence / Eds. G. R. Adams, M. D. Berzonsky, 2003. Pр. 175–204.
- Коряковцева Н. Ф. Автономия учащегося в процессе изучения иностранного языка и культуры. Автономность в практике обучения иностранным языкам и культурам // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2001. Вып. 461. С. 12–28.
- Лебедева К. С. Зарубежный опыт исследования учебной и образовательной самостоятельности // Научный диалог. 2016. № 2(50). С. 374–382.
- Reinders H. From autonomy to autonomous language learning. Teaching English in multilingual contexts: Current challenges, future directions / A. Ahmed, G. Cane & M. Hanzala (Eds.). Cambridge, 2011. Pр. 37–52.
- Корозникова А. А. Сущность понятия «учебная автономия» и обучение стратегиям автономной учебной деятельности в образовательном процессе по иностранному языку // Концепт. 2016. Т. 11. С. 761–765.
- Коротнева Н. М. Автономное обучение в лингводидактике: сущность и история развития // Научные преобразования в эпоху глобализации : сб. статей междунар. науч.-практ. конф. Уфа, 1 мая 2017 г. : в 4 ч. Уфа, 2017. Ч. 4. С. 69–70.
- Милютинская Н. Ю. Автономная учебная деятельность в иноязычном образовании (теория и практика) : монография / под ред. Н. М. Платоненко. Ижевск, 2011. 266 с.
- Dickinson L. Self-instruction in language learning. Cambridge, 1987. 200 р.
- Duda R., Tyne H. Authenticity and Autonomy in Language Learning. HAL (multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research). VALS-ASLA Bulletin suisse de linguistique appliqué. Nancy, France: CRAPEL, Université Nancy, Vol. 92. 2010/2011/ Pр. 1–21. № hal-00525058. URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00525058v1/document.
- Gremmo M.-J. and Riley P. Autonomy, self-direction and self-access in language teaching and learning: the history of an idea. System. 1995. Vol. 23, iss. 2. Pp. 151–164.
- Rogers C. R. Freedom to learn for the 80s. N.-Y., 1983. 181 р.
- Holec H. Autonomy in foreign language learning. Oxford, 1981. 200 p.
- Little D. Learner Autonomy 1: Definitions, Issues, and Problems. Dublin, 1991. 175 p.
- Littlewood W. Deining and developing autonomy in East Asian contexts. Applied Linguistics. 1999. № 20(1). Pр. 71–94.
- Насонова Е. А. Анализ интерпретаций понятия «учебная автономия» // Известия вузов. Серия «Гуманитарные науки». 2010. № 2. С. 145–149.
- Thanasoulas D. What is Learner Autonomy and How Can It Be Fostered? The Internet TESL Journal. 2000. № 11(6). P. 1. URL: http://iteslj.org. (accessed data: 21.01.2021).
- Smith R. & Vieira F. Teacher education for learner autonomy: building a knowledge base. Innovation in Language Learning and Teaching. 2009. № 3. Pр. 215–220. https://doi.org/ 10.1080/17501220903404434.
- Цукерман Г. А., Венгер А. Л. Развитие учебной самостоятельности. М., 2010. 432 с.
- Smith R. Developing Teacher-Learner Autonomy: Constraints and Opportunities in Pre-service Training. United Kingdom, Warwick, 2021. Pр. 1–15. URL: https://warwick.ac.uk/fac/soc/al/people/smith/smith_r/developing_teacher-learner_autonomy_canaries.pdf (accessed data: 21.01.2021).
- Бурменская Г. В. Понятие «ориентировочная деятельность» как средство анализа феноменов психического развития в онтогенезе // Культурно-историческая психология. 2012. № 4. С. 7–12.
- Мясникова О. В. Отражение феномена «выученной беспомощности» в изучении иностранного языка // Опыт и перспективы обучения иностранным языкам в евразийском образовательном пространстве. 2018. № 3. С. 133–140.
- Богомолова Е. А. Индивидуальные варианты умственного развития младших школьников : дис. … канд. психол. наук. Калуга, 2002. 150 с.
- Минигалиева М. Р. Изучение психологии и самопознание студентов. Психотерапевтическая модель педагогического общения Л. А. Петровской. Saarbrucken, 2012. 632 с.
- Seligman M. E. P. What You Can Change & What You Can’t. N.-Y., 1993. 359 p.
- Палеха С. А. Выученная беспомощность в системе обучения // APRIORI. Серия «Гуманитарные науки». 2017. № 5. С. 10–11.
- Полякова М. В. Управление стрессом учебы // Уникальные исследования XXI века. 2015. № 8(8). С. 161–177.
- Гузенко Е. Е., Крючкова К. С. Состояние выученной беспомощности у студентов // Мир педагогики и психологии. 2017. № 12(17). С. 145–152.
- Волкова О. В. Выученная беспомощность: технология исследования генеза. Новосибирск, 2018. 280 с.
- Волкова О. В. Перспективы внедрения системы профилактики выученной беспомощности в процессе подготовки специалистов помогающих профессий // Вестник Кемеровского государственного университета. 2019. Т. 21, № 2(78). С. 384–394. https://doi.org/10.21603/2078-8975-2019-21-2-384-394.
- Дубынин А. Ю., Веденеева Е. В. Выученная беспомощность во взаимосвязи с коммуникативными умениями и смысложизненными ориентациями // Вестник магистратуры. 2014. № 8(35). С. 18–21.
- Циринг Д. А. Самостоятельность и беспомощность у студентов высших учебных заведений // Высшее образование сегодня. 2008. № 6. С. 48–50.
- Геранюшкина Г. П., Афраймович О. Э. Сценарии выученной беспомощности // Психология в экономике и управлении. 2013. № 1. С. 17–22.
- Девятовская И. В. Выученная беспомощность как профессиональная деструкция и психологический барьер развития личности // Системогенез учебной и профессиональной деятельности : мат-лы VII междунар. науч.-практ. конф. Ярославль, 2015. С. 155–156.
- Эриксон М. Мой голос останется с вами. М., 2009. 304 с.
- Arpentieva M. R., Klimova E. K., Pyleva T. V. Development of motivation for professional work of teachers of the system of additional education. Canada, Toronto, 2022. 182 p.