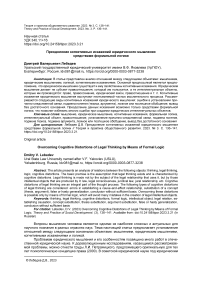Преодоление когнитивных искажений юридического мышления средствами формальной логики
Автор: Лебедев Дмитрий Валерьевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ отношений между следующими объектами: мышлением, юридическим мышлением, логикой, когнитивными искажениями. Основной предпосылкой является предположение, что юридическое мышление существует и ему свойственны когнитивные искажения. Юридическим мышление делает не субъект правоотношения, который им пользуется, а те интеллектуальные объекты, которые им производятся: право, правосознание, юридический закон, правоотношение и т. п. Когнитивные искажения юридического мышления выступают неотъемлемой частью мыслительного процесса. Рассматриваются следующие виды когнитивных искажений юридического мышления: ошибки в установлении причинно-следственной связи, подмена понятия (тезиса, аргумента), ложное или поспешное обобщение, вывод без достаточного основания. Преодоление данных искажений возможно только средствами формальной логики, что позволит избежать многих ошибок при создании юридических интеллектуальных объектов.
Мышление, юридическое мышление, когнитивные искажения, формальная логика, интеллектуальный объект, правоотношение, установление причинно-следственной связи, подмена понятия, подмена тезиса, подмена аргумента, ложное или поспешное обобщение, вывод без достаточного основания
Короткий адрес: https://sciup.org/149142412
IDR: 149142412 | УДК: 340.11+16 | DOI: 10.24158/tipor.2023.3.21
Текст научной статьи Преодоление когнитивных искажений юридического мышления средствами формальной логики
Yekaterinburg, Russia, ,
Вопросы мышления человека являются одними из наиболее сложных и актуальных для научного познания в разных отраслях наук. Тема настоящей статьи предполагает установление отношений между следующими основными объектами: мышлением, юридическим мышлением, когнитивными искажениями и логикой.
Проблемам юридического мышления и его особенностям посвящено много работ в отечественной юридической науке. К дореволюционным исследованиям, касающимся рассматриваемой проблемы, можно отнести труды Л.И. Петражицкого, предложившего оригинальную для тех лет психологическую концепцию права (2000). В советской юридической науке под юридическим
мышлением понимался «определенный вид профессионального мышления… известная область мышления человека, которая не ограничивается строгими рамками и которая определена в первую очередь своим предметом, т. е. правом» (Кнапп, Герлох, 1987: 37). В российской научной литературе последних лет отдельными аспектами юридического мышления занимались П.П. Баранов, А.Э. Жалинский, А.Ю. Мордовцев, А.И. Овчинников, анализировавшие вопросы генезиса и особенности профессионального юридического мышления.
В работах П.П. Баранова юридическое мышление исследуется через призму духовного мира человека (1998). А.Э. Жалинский изучал особенности правового мышления применительно к профилактике преступлений, подготовке юридических кадров, профессиональной деятельности юристов в целом1. А.И. Овчинников определяет юридическое мышление как «феномен правовой сферы духовного мира человека, представляющий собой процесс понимания окружающей индивида социально-правовой действительности, результатом которого является, с одной стороны, желаемое и позитивное право, с другой – комплекс правовых знаний, привычек и стереотипов поведения, формирующийся и институализирующийся в правовом сознании и юридическом мировоззрении человека» (2003: 309). Представляется, что А.И. Овчинников расширяет понимание юридического мышления до правосознания. С точки зрения А.Ю. Мордовцева, юридическое мышление – это вид интеллектуально-познавательной и практически-преобразующей деятельности людей, основу которой составляет понимание того, что такое право, правопознание, закон, власть и т. п. (2003).
Если обращаться к словарным способам определения юридического мышления, В.А. Ба-чинин и В.П. Сальников дают следующую дефиницию: «высшая аналитическая способность личности как субъекта правоотношений, функционирующая и развивающаяся в ходе духовно-практического разрешения разнообразных социально-правовых противоречий»2.
Среди зарубежных авторов, исследовавших вопросы юридического мышления, нельзя обойти стороной работы французского правоведа Р. Давида, предложившего деление юридического мышления на прецедентное и доктринальное, опирающееся на два способа осмысления правовой реальности, вытекающие из принадлежности к англосаксонской или континентальной традиции (Давид, Жоффре-Спинози, 1999; David, Jauffret-Spinosi, 1992).
Если продолжить тему классификации видов юридического мышления, то ряд авторов склонны выделять теоретическое и практическое юридическое мышление: «теоретическое юридическое мышление связано с представлением о праве как уникальном, многогранном социальном явлении», специфика которого определяется «образовательными правовыми доктринами» (Куклин, 2016: 24). При этом «практическое юридическое мышление осуществляется в процессе профессиональной деятельности юриста» (Куклин, 2016: 24).
Полагаем, что выделение видов юридического мышления является условным, так как предполагает существенное число допущений, исключений и оговорок, что снижает познавательное значение такого деления.
Идеи Р. Давида о социокультурной обусловленности юридического мышления оказали влияние в том числе на выделение двух способов понимания юридического мышления в рамках классической и постклассической парадигм (Юридическое мышление…, 2020). Само по себе разделение трактовки юридического мышления с позиции данных парадигм накладывает ограничения, так как основано на видении субъекта этого мышления (юриста). От интерпретации субъекта, его роли, статуса, положения в мире зависит понимание юридического мышления. Данный способ определен рамками, заданными парадигмой восприятия субъекта этого мышления. Поэтому направление движения от мышления к его субъекту, а не наоборот, будет более продуктивным и позволит понять его важные особенности.
Толковать юридическое мышление в отрыве от мышления как такового значит упускать из виду те аспекты юридического мышления, которые ему присущи как мышлению. В самом обобщенном виде под мышлением понимается способность человека формировать представление о реальности. Это такая интеллектуальная активность человека, которая направлена на работу с различными интеллектуальными объектами. Для юридического мышления подобными интеллектуальными объектами выступают право как таковое, правосознание, юридический закон, правоотношение и т. п.: «Юридическое (правовое) мышление – это особого рода интеллектуальный способ существования в среде, создающий правовую реальность» (Куклин, 2016: 24).
К специфике юридического мышления следует отнести его формально-логический (Вербицкий, 2004), рациональный, опирающийся на правовые нормы, способ организации, упорядочивания человеческих отношений (Зыков, 2012: 279). Юридическое мышление, будучи формальным, рациональным, нормативным, является сугубо языковым.
Эту специфику юридического мышления тонко подметили В.И. Кириллов и А.А. Старченко, указав, что оно неразрывно связано с языком: «какая бы мысль ни возникла в голове человека, она может возникнуть и существовать лишь на базе языкового материала, в словах и предложе-ниях»1. Отмечая языковую природу юридического мышления, данные авторы утверждают, что при опоре на языковой материал мышление позволяет человеку познавать недоступные чувственному познанию явления и законы природы, общества, будучи высшей по сравнению с чувственной формой отражения действительности2. Этот подход ценен тем, что мышление в понимании В.И. Кириллова и А.А. Старченко представляет собой интеллектуальную активность, направленную на создание интеллектуальных объектов, которые формируют недоступную чувственному восприятию картину реальности.
Таким образом, для понимания сути юридического мышления в большей степени подходит трактовка мышления как интеллектуальной активности человека, ориентированной на разработку интеллектуальных объектов, формирующих картину реальности: физической, социальной, повседневной и т. п., а применительно к нашему исследованию – юридической (правовой): «Юридическое мышление реализуется и функционирует в рамках, скажем, некой “юридической картины мира”» (Скурко, 2011: 27). Юридическое мышление и юридическая картина мира, присущая определенному историческому моменту, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Мы не можем рассматривать юридическое мышление в отрыве от мышления как такового и правовой реальности, в которой оно существует.
Юридическое мышление, а равно и мышление как таковое, формируется и протекает в определенных обстоятельствах. Последние, воздействуя на процесс мышления, вносят в него искажения. Данные искажения принято называть когнитивными искажениями.
Ошибки или искажения мышления изучало большое количество авторов. Следует упомянуть психологические исследования Д. Канемана и А. Тверски, анализировавших проблемы рационального выбора (2003). Также психологические ошибки мышления рассматривали Д. Бернс, Р. Лихи, А. Фридмен, Р. Девульф, Дж.С. Бек, Д.В. Ковпак, А.Г. Каменюкин, А.В. Курпатов и др. Ошибки мышления возникают во многом при анализе повседневных жизненных ситуаций и отношений между людьми и основаны на стереотипах мышления, которые были усвоены еще в детском и юношеском возрасте.
Вопросы ошибок и когнитивных искажений, свойственных собственно юридическому мышлению, являлись предметом исследования некоторых отечественных ученых, однако они носят узкий, прикладной характер. Так, например, С.Ю. Кораблева рассматривает деятельность профессиональных участников уголовного процесса с позиции концепции когнитивных искажений, раскрывая влияние психологических факторов на юридическое мышление. С ее точки зрения, под когнитивными искажениями следует понимать «влияющие на принятие решения систематические и предсказуемые ошибки в мышлении» (Кораблева, 2020: 799). Воздействие когнитивных искажений на юридическое мышление через призму современной когнитивной психологии демонстрирует Е.В. Скурко (2011), раскрывая взаимосвязь юридического мышления с юридической картиной мира. Исследованию судебных ошибок посвящены работы А.В. Самойлова и Д.Е. Снегиревой (2014).
Безусловно, когнитивные психологические искажения влияют на юридическое мышление. Их изучение имеет большое значение для юриста при выстраивании юридической практики. Помимо когнитивных психологических искажений, воздействующих на юридическое мышление, представляется возможным выделить в отдельную группу когнитивные искажения, природа которых заключена в формально-логической, рациональной, нормативной специфике юридического мышления. Данные ошибки не укоренены в психологии человека и особенностях работы его мозга, определенных его эволюционным строением. К когнитивным искажениям юридического мышления, относящимся к его специфике, следует отнести ошибки, связанные с применением правил и законов логики.
Если обращаться к формальной логике, то и она не является образцом стройности и нормативности, так как допускает ситуации внутренних противоречий (достаточно вспомнить знаменитые логические парадоксы, например «парадокс лжеца», которые до сих пор не нашли разрешения).
В процессуальных отраслях права подобные когнитивные искажения могут приводить к вынесению незаконного и необоснованного судебного решения. С формально-логической точки зрения решение суда является процессуально оформленным умозаключением. Подтверждением этому служат следующие нормы процессуального права: п. 3 ч. 1 ст. 270 АПК РФ3; п. 3 ч. 1
ст. 330 ГПК РФ1; п. 3 ч. 2 ст. 310 КАС РФ2; ч. 1 ст. 389.15 УПК РФ3. Во всех этих статьях основанием для изменения или отмены судебного решения выступает несоответствие выводов, изложенных в решении, фактическим обстоятельствам дела. Данное несоответствие – это отсутствие логической связи между посылками, из которых исходил суд при принятии решения, и сделанными по ним выводами.
В качестве примера приведем выдержку из апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 17 февраля 2022 г. по делу № 66а-476/20224, в котором суд апелляционной инстанции приходит к заключению о расхождении выводов суда первой инстанции, сделанных по результатам рассмотрения административного дела, с фактическими обстоятельствами, установленными и исследованными доказательствами. Данное расхождение апелляционный суд определяет как отсутствие в судебном акте формальной логики и причинно-следственной связи, поскольку выводы суда не соответствуют предпосылкам, из которых они сделаны, что является основанием для пересмотра судом апелляционной инстанции.
Приведенный пример демонстрирует вид когнитивного искажения юридического мышления, связанного с ошибкой в установлении причинно-следственной связи. Данное искажение было известно еще в эпоху Античности, древнеримские юристы называли его post hoc ergo procter hoc (после этого – значит по причине этого). Ошибка в причинно-следственной связи может возникать, когда события, идущие друг за другом в хронологическом или пространственном порядке, приводят к выводу о наличии между ними причинно-следственной связи. Тот факт, что какая-либо вещь попала в какую-то последовательность событий, еще не доказывает наличие причинно-следственной связи между этой вещью и конечным результатом последовательности. Указанное когнитивное искажение может появляться при расследовании уголовных дел, установлении причинно-следственных связей между действиями причинителя вреда и причиненными последствиями, вынесении судебного решения. Преодоление этого искажения возможно только средствами формальной логики, посредством выявления и исследования достаточного и необходимого условия наступления того или иного события.
Следующее когнитивное искажение, которое часто встречается в юридическом мышлении, – подмена понятия (тезиса, аргумента). Оно приводит к ошибкам в понимании и толковании нормативно-правовых, правоприменительных актов и договоров. Источником данной ошибки является нарушение фундаментального логического закона тождества, согласно которому любая мысль в процессе рассуждения должна быть тождественна самой себе ( а есть а , или а = а , где под а понимается любая мысль).
Для юридического мышления важным является предельно точное определение тех понятий, которыми пользуются носители юридического мышления (следователи, адвокаты, судьи и т. п.). Подобное когнитивное искажение во многом связано с тем, что каждый из нас вкладывает в слова языка, в которых выражаются понятия и термины юриспруденции, свои смыслы и значения, обусловленные личным опытом, уровнем образованности, картиной мира, в рамках которой разворачивается мыслительная деятельность, и другими факторами.
Данный вид юридической ошибки распространен, а анализ судебной практики показывает, что совершают ее как стороны судебного разбирательства, так и судебные органы. О недопустимости подмены понятия, влияющей на создание ЕЭС, сообщается, в частности, в Консультативном заключении Суда Евразийского экономического союза от 16 октября 2019 г. по делу № СЕ-2-2/3-19-БК: «Подмена понятия “обязанность хозяйствующего субъекта в таможенных правоотношениях” на “обязанность государства в межбюджетных отношениях” является способом создания нового барьера на пути к созданию единого Союза – субъекта международного права»5. Преодоление данного когнитивного искажения возможно только средствами формальной логики, а именно использованием логической операции определения, раскрывающей существенные признаки понятия или термина, который будет применяться в процессе юридического мышления.
Одно из когнитивных искажений юридического мышления, которое часто встречается в законотворческой, судебной и следственной практике, основано на ложном или поспешном обобщении (dicto simpliciter – высказывание без оговорок). Данное искажение возникает тогда, когда при формулировании общего правила игнорируются очевидные исключения.
Ложное или поспешное обобщение встречается на практике в двух видах. Первый представлен попыткой применить либо сформулировать общее правило там, где имеются очевидные исключения. Данная когнитивная ошибка была известна еще Аристотелю, который описывал ее при создании теории силлогизма. Например, силлогизм «Резать человека ножом – преступление. Хирург режет человека ножом. Следовательно, хирург – преступник» содержит в себе ошибку обобщения без исключения в большей посылке («Резать человека ножом – преступление»). Второй вид подобного обобщения состоит в попытке применить обобщение к случаю, в котором, очевидно, имеются исключения. Например, «все банкиры, с которыми я встречался, скряги, следовательно, все банкиры скряги».
В правоприменительной практике данная ошибка встречается при формировании общего вывода из частных заключений. Например, наличие логической ошибки поспешного обобщения стало одним из оснований признания арбитражным судом недействительным решения антимонопольного органа1. Очевидно, что только формально-логическая процедура, направленная на раскрытие объема понятия или термина (обобщение понятия или деление понятия), позволит избежать когнитивного искажения в виде ложного или поспешного обобщения.
Вывод без достаточного основания – вид когнитивного искажения, при котором тезис доказывается сомнительными или непроверенными аргументами. Данный вид искажения встречается в следственной и судебной практике.
Рассмотрим следующее рассуждение: «Преступление совершил Иванов (вывод), так как он сам признался в этом (основание)». Однако факт признания человеком в совершения преступления не означает, что он действительно его совершил, ведь признаться под пытками или любым другим давлением можно в чем угодно. Данный вид когнитивного искажения основан на нарушении логического закона достаточного основания: всякая мысль признается истинной, если она имеет достаточное основание, т. е. базируется на высказываниях, истинность которых уже доказана. Закон достаточного основания утверждает, что любая мысль, для того чтобы иметь силу, обязательно должна быть обоснована какими-либо аргументами (основаниями). Причем эти аргументы должны быть достаточными для доказательства исходной мысли, т. е. она должна вытекать из них с необходимостью (вывод должен с необходимостью следовать из оснований). Именно на законе достаточного основания базируется важный юридический принцип презумпции невиновности, который предписывает считать человека невиновным, даже если он дает показания против себя, до тех пор пока его вина не будет доказана.
О значимости логического закона достаточного основания свидетельствует хотя бы тот факт, что его требования закреплены в ст. 88, 140, 171, 297 УПК РФ, обусловливающих совершение того или иного процессуального действия с достаточностью основания для этого (Самойлов, Снегирева, 2014). Тот факт, что требования недопустимости нарушения законов и правил формальной логики закреплены в нормативных актах, свидетельствует о существенном влиянии логических ошибок юридического мышления на принятие правовых решений.
Когнитивные искажения юридического мышления, к сожалению, выступают неотъемлемой частью мыслительного процесса. Избавиться от них полностью невозможно, им подвержены все без исключения, даже самые образованные юристы. Однако, обладая инструментами, позволяющими выявлять когнитивные искажения и устранять их, мы можем избежать многих ошибок при создании юридических интеллектуальных объектов, и одним из таких эффективных инструментов является формальная логика.
Список литературы Преодоление когнитивных искажений юридического мышления средствами формальной логики
- Баранов П.П. Правовая сфера духовного мира человека // Северо-Кавказский юридический вестник. 1998. № 1. С. 54-60.
- Вербицкий А.А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения. М., 2004. 84 с.
- Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / пер. с фр. В.А. Туманова. М., 1999. 398 с.
- Зыков Д.В. Некоторые вопросы теории юридического мышления // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 5: Юриспруденция. 2012. № 2 (17). С. 274-280.
- Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // Психологический журнал. 2003. Т. 24, № 4. С. 31-42.
- Кнапп В., Герлох А. Логика в правовом сознании. М., 1987. 311 с.
- Кораблева С.Ю. Анализ постановлений Пленума Верховного суда РФ с точки зрения концепций когнитивных искажений профессиональных участников уголовного процесса // Всероссийский криминологический журнал. 2020. Т. 14, № 5. С. 798-807. https://doi.org/10.17150/2500-4255.2020.14(5).798-807.
- Куклин С.В. К вопросу о структуре юридического мышления // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Право. 2016. Т. 16, № 3. С. 22-26. https://doi.org/10.14529/law160304.
- Мордовцев А.Ю. Юридическое мышление в контексте сравнительного правоведения: культурантропологические проблемы // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2003. № 2. С. 38-49.
- Овчинников А.И. Правовое мышление: теоретико-методологический анализ : монография / отв. ред. П.П. Баранов. Ростов н/Д., 2003. 341 с.
- Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., 2000. 608 с. Самойлов А.В., Снегирева Д.Е. О применении основных логических законов и последствиях их нарушения в уголовно-процессуальной судебной деятельности // Auditorium: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2014. № 4. С. 96-102.
- Скурко Е.В. Юридическое мышление в конструктах современной когнитивной психологии // Ленинградский юридический журнал. 2011. № 3 (69). С. 19-57.
- Юридическое мышление. Классическая и постклассическая парадигма : коллективная монография / под ред. Е.Н. Тонкова, И.Л. Честнова. СПб., 2020. 461 с.
- David R., Jauffret-Spinosi C. Les grands systemes de droit contemporains. Paris, 1992. 523 p.